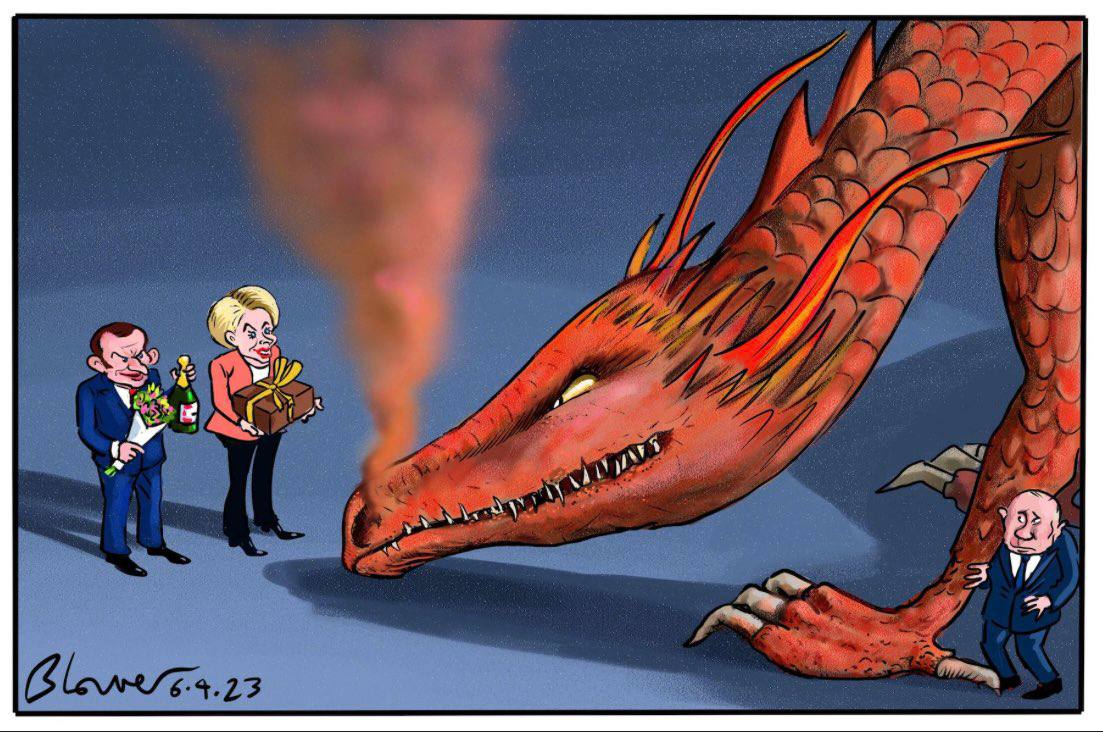бы сама собой — как рождается вывод не из рассуждения, но из долгого разговора.
Берем «Предмет и материю» и задаемся вопросом о том, что, собственно, здесь есть «предмет», и что — «материя». По ходу текста понятия постоянно, но не акцентированно меняются. Сначала предмет — просто «вещь», а материя — то, из чего она сделана. Но дальше материей становится некий принцип материальности, то вещество, из которого создано все сущее. Предмет же — сосуд, в который залита эта странная материя. До этих пор мы находимся в рамках вполне аристотелевой логики, где материя — нечто, заполняющее предмет как пустую форму. Но далее возникает следующий сдвиг, когда материя мира оказывается не столько изображенной, сколько преображенной искусством, или даже точнее — искусство русское улавливает сам феномен преображенной материальности, который следует из обещанного воскресения во плоти. Предмет же вновь — скорее ипостась преображенной плоти мира, причем ипостась, способная уклониться от того подлинного содержания, которое дает ей сам факт ее бытия. В перспективе возникает противопоставление предмета «как собрата по бытию» предмету, который «внешне громогласен, но внутренне нем». Более того, завершенный, законченный, «готовый» предмет воспринимается едва ли не как покушение на тот мистический континуитет «бытийствующей» преображенной материи, как попытка поставить перегородку законченной формы поперек русла ее протекания.
В каком-то смысле это сопоставимо с неприязнью М. Бахтина к «совсем готовым», завершенным телам современной культуры, противопоставленным живому и не знающему границ «коллективному телу» народной культуры. «Готовые тела» изначально закончены и потому изначально смертны, коллективное тело обладает парадоксальным качеством живого бессмертия. Но «материальность» в понимании Бахтина — не преображенная, жрущая и эрогенная плоть, здесь же мы имеем дело именно с преображенной телесностью.
В этой же связи надо понимать и «Тело в пространстве», вторую статью из трилогии «Вид сбоку». Сарабьянов — увлекающийся человек, он пытается довольно буквально перенести методологию чтения текста через телесный код, которую разрабатывает Мерло-Понти, в анализ пластической культуры. Так возникает мощная, кряжистая фигура Малевича, проглядывающая за его полотнами. Но, на мой взгляд, результат «телесного» прочтения у Сарабьянова резко отличается от того, что мы находим у постструктуралистов — любимого им Подороги или Ямпольского. Там речь идет о теле корчащемся, расчлененном, сплошь состоящем из швов интертекстуальных связей и протезированных членов цитат. Я думаю, если в этой логике попытаться прочитать телесный опыт полотен Малевича, то получится что-нибудь вроде инвалидов первой мировой войны у Отто Дикса. В любом случае не тот ладный персонаж, который видится Сарабьянову.
Все дело в том, что интересующее Сарабьянова «тело» — все-таки тело, имеющее перспективу «воскрешения во плоти», никакие швы и протезы здесь неуместны. Отсюда принципиальная противоположность стратегий. Там, где у постструктурализма — инкорпорация, во-площение хаоса, там у Сарабьянова — освоение этой «в будущем преображенной» телесностью бесконечности пространства. Узнавание в населяющих пространство предметах «собратьев по бытию», а не травматизм от экспансии «иного».
Что получается в результате? С одной стороны, преобразуется вся материя традиции, она становится «латентно православной». С другой, следует вывод: «Русское искусство более интересуется материей, чем предметом», тем самым вся традиция оказывается как бы «беременной авангардом». Более фундаментальной легализации авангарда трудно себе представить, ибо в таком случае то, что открывается за поверхностью вещей у Филонова, и то, что открывает за пределами видимого Малевич, оказывается укоренено в русской традиции и русской вере бессознательно — то есть независимо от их собственных размышлений на сей счет.
С таким багажом можно выходить к задаче программной статьи сборника — «Русский авангард перед лицом религиозно-философской мысли». Ибо взаимная неприязнь авангардистов и религиозных философов, лежащая на поверхности источников и исторических свидетельств, оказывается просто случайностью взаимного неузнавания. Это всего лишь «лицом к лицу лица не увидать» — на расстоянии Сарабьянов констатирует тождественность того менталитета, который стоит за «Столпом и утверждением истины» и «Черным квадратом».
Последствия проекта
В России искусствоведение представляет собой маргиналию гуманитарного знания. С одной стороны, это следствие традиционного для русской культуры маргинального положения пластических искусств, с другой — особенность устройства науки об искусстве. В сегодняшней ситуации маргинальность все же на совести искусствознания: оно слишком неэффективно вводит искусство в общий горизонт гуманитарной сферы, фиксируя тем самым и его, и собственную маргинальную позицию.
Причина — в изолированности искусствоведения. Первый и последний раз, когда наука об искусстве была открыта для общегуманитарных парадигм, — это эпоха формализма, история 70-летней давности. Ее открытость проистекала ровно из того, что источником формальной парадигмы выступало само искусствознание. Самое значительное событие в русской гуманитарной культуре послевоенного времени — структурализм — прошло мимо науки об искусстве. При практическом тождестве основных процедур семиотики и иконографического анализа. Основной сферой проговаривания сегодняшних — поструктуралистских, постмодернистских и прочих пост-смыслов гуманитарного сознания оказалась философия. И настолько, насколько искусствознание желает уйти от собственной маргинальности, оно должно открываться философскому дискурсу.
Именно это «открывание» и пытается произвести Сарабьянов. Путь его, однако же, по-своему если не маргинален, то уникален — основными его собеседниками оказываются русские религиозные философы. Правда, философски это не вполне замкнутая область. Здесь есть достаточно много параллелей: в трактовке преображенной материи заметен диалог не только с православием, но с Бергсоном и с Тейяром де Шарденом; в идее «тела в пространстве», как уже говорилось, — с Мерло-Понти; наконец, в самой постановке проблем «предмет и материя», «глаз и ухо» — с Хайдеггером. Но интереснее не эти, все же довольно локальные события тематических встреч с западной философией, а то, что в данном проекте происходит с русской.
Борис Гройс как-то определил специфику русской философии как размышления исключительно о русском — и это правильно. Она действительно замкнута, и попытки вывести темы русской философии, ее понятийный аппарат и способ размышления за границы любимых ею сюжетов России и православия очень редки. Кроме лосевской «Философии имени», пытающейся вывести лингвистическую методологию из синтеза имяславия и феноменологии, другие примеры очень редки. На мой взгляд, и этот пример не назовешь удачным.
Сарабьянов пытается перенести интуиции русской религиозной философии в искусствознание, и к этому можно относиться по-разному. Но что необходимо подчеркнуть — это перенос, свободный от догматизма. Перед нами пример свободной профессиональной православной мысли, и он достаточно уникален. По крайней мере в отношении искусствознания, несмотря на наличие серьезной школы изучения древнерусского искусства — здесь, напротив, позитивизм историков соединился с православным догматизмом, образовав столь «железобетонную» конструкцию, что о свободе мысли не может быть и речи. Именно отсюда, кстати, стоит ожидать наиболее жесткой критики сарабьяновских построений.
Дело даже не в том, насколько истинны сами