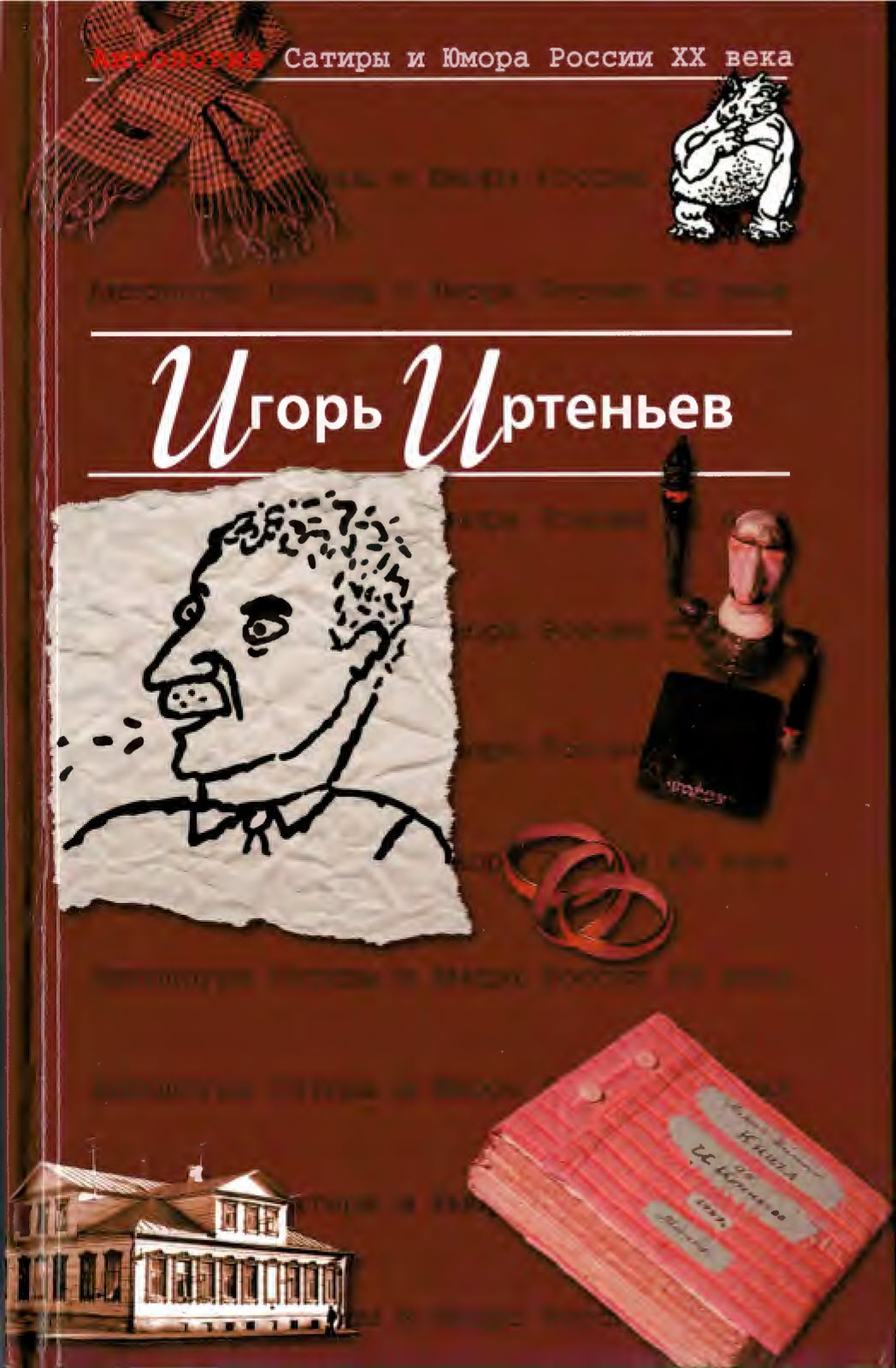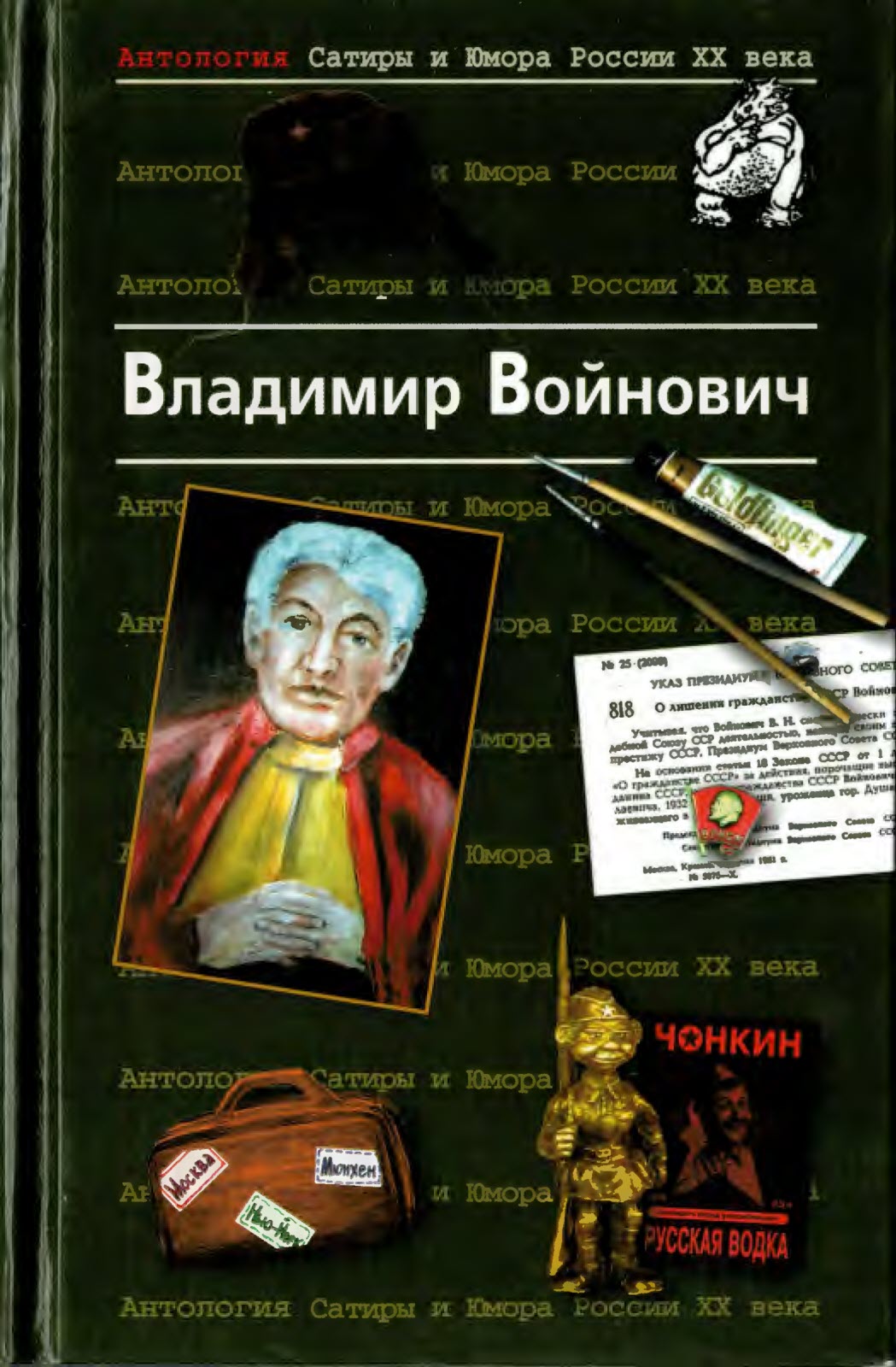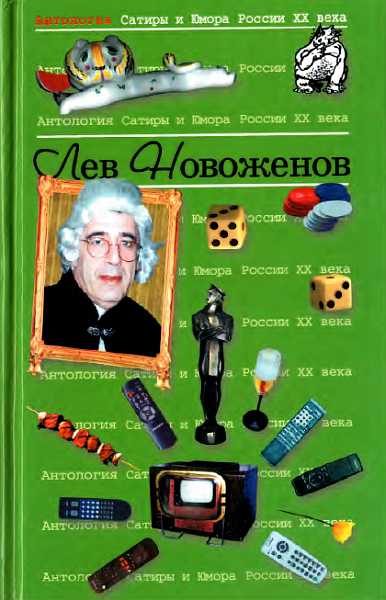трактир Львова и многие другие неизгладимые подробности своей жизни. Он дышал на очарованного Ванечку раками и, покрывая бестолковый шум, уже стоящий в переполненном зале, раскрывал перед ним необыкновенные перспективы, точно снимал туманную оболочку с вещей, казавшихся кассиру до сих пор скучными и не стоящими внимания.
Вдруг заиграла бойкая музыка. Русый чуб тапера упал на белые и черные костяшки стонущей клавиатуры. Три руки задвигали мяукающими смычками над складными пультами. Постыдно надутые губы прильнули к тесной дырочке флейты, извлекая из черного дерева чистый, высокий и волнистый ангельский вой. И все это, соединенное вместе разжигающим мотивом, ударило по самому сердцу обещанием несбыточных каких-то и вместе с тем очень доступных удовольствий.
Яйцевидные лампочки под потолком стали размножаться со сказочной быстротой. Ванечка сидел очень прямо, как деревянный, и так широко улыбался, что казалось, будто его щеки плавают сами по себе, где-то поблизости, в синеватом воздухе. Никита стоял, вытянувшись по-солдатски, в картузе и говорил нечто неразборчивое.
— А что такое? — закричал оглохший бухгалтер.
— Счастливого пути, говорю, товарищи! — выкрикнул Никита, проплывая вправо. — И вам счастливого пути, товарищ кассир. Приятного путешествия. Разрешите для последнего знакомства одну разгонную.
— Валяй! — закричал Ванечка, ничего не понимая.
— Никита! — погрозил пальцем Филипп Степанович. — Ты пьян… Я вижу это ясно.
Официант выстрелил из холодной бутылки, как из пистолета. Пена поползла в стакан. Ванечка рылся в карманах, вытаскивая деньги, чтоб расплатиться.
— А теперь, Филипп Степанович, хоть и на извозчика, — сказал Никита, почтительно подавая бухгалтеру шляпу и зонтик.
— Поедем, Ванечка, — мутно проговорил Филипп Степанович, опрокидывая на опилки стул страшно отяжелевшей полой своего пальто.
Было совершенно ясно, что разойтись по домам и расстаться с Ванечкой именно теперь, в тот самый момент, когда жизнь только начинала улыбаться, было никак невозможно, просто глупо. Надо было каким-то образом обязательно продолжить так приятно и многообещающе начатый вечер. В конце концов все равно — завтра получка, и можно ж раз в жизни немножко кутнуть.
— Поедем, Ванечка, — повторил Филипп Степанович, выбираясь из пивной во тьму.
— Куда же мы, Филипп Степанович, теперь поедем? — жалобно спросил Ванечка, ужаснувшийся от одной мысли, что ехать может оказаться некуда и все расстроится.
Филипп Степанович раскрыл зонтик, остановился и поднял руку.
— Едем, Ванечка, ко мне. Я тебя приглашаю к обеду. Милости просим. И точка. Жена будет очень рада. Захватим по дороге закусочки, коньячку, корнишончиков. Увидишь мое семейство. Все будут ужасно рады. Постой, Ванечка, я тебе должен сказать, что ты мне невероятно нравишься. Дай я тебя поцелую. И не потому, что пьян, а уже давно.
При этих словах Филипп Степанович обнял Ванечку и пребольно уколол его усами в глаз.
— А может, ваша супруга, Филипп Степанович, будут недовольны? — спросил Ванечка.
— Если я говорю, что все будут рады, значит, будут… И корнишончиков… Приедем, а я сейчас же и скажу: приготовь ты нам, Яниночка (это мою жену зовут Яниной, потому что она из Лодзи), приготовь ты нам, Яниночка, этакую селедочку с лучком и поросенка с хреном. Все будет как нельзя лучше. Суаре интим в тесном кругу, как говорил старик Саббакин… Только ты, Ванечка, того! Я ведь вас, молодых людей, хорошо понимаю. Сам небось помню. Насчет моей приемной дочки держись. Такая девица, что сейчас врежешься, как черт в сухую грушу. А после обеда — не угодно ли кофе… С ликерами… Шерри-бренди… Будьте любезны… — болтал Филипп Степанович, уже сидя на плещущем извозчике и нежно поддерживая захмелевшего на чистом воздухе Ванечку за спину.
Перед его взорами носилась картина великолепной дубовой столовой, стола, накрытого крахмальной скатертью на шесть кувертов, деревянных зайцев на буфете и тому подобного.
Никита постоял некоторое время под дождем на середине мостовой без шапки, глядя вслед удаляющемуся извозчику, развел руками и с горестным вздохом сказал про себя:
— Разъехались… Такая, значит, им написана планета, чтоб ездить теперь по разным городам. А я себе пойду…
После этого он плотно надел на уши картуз и пошел через лужи, бормоча:
— С такими деньгами еще бы не поездить!. Половину земли можно объездить… А все-таки очень скучная у нас служба получится, если все кассиры и бухгалтера разъедутся. Пойти, что ли, напиться?
И мрак окутал Никиту.
Глава третья
Примерно через полчаса нагруженные кульками и свертками, бережно поддерживая друг друга, Филипп Степанович и Ванечка поднялись по лестнице на третий этаж некоего дома, в районе Покровских ворот, где жил Филипп Степанович. Они позвонили четыре раза. Пока дверь еще не отворили, Ванечка поглядел на Филиппа Степановича и сказал:
— А может, Филипп Степанович, неудобно беспокоить вашу супругу?
Бухгалтер грозно нахмурился.
— Если я приглашаю к себе в дом обедать, значит, удобно. Какие могут быть разговоры? Милости просим. Я и жена будем очень рады. Суаре интим. И точка.
В этот момент дверь быстро открылась, и на пороге предстала дородная немолодая женщина в домашнем капоте с большими розами. По выражению ее лица, по особому содроганию волос, мелко и часто закрученных папильотками, похожими на билетики лотереи-аллегри (наверняка с проигрышем), по тому ни с чем не сравнимому и вместе с тем зловещему изгибу толстого бедра, который красноречивей всякого грома говорил о семейной погоде, — по всем этим признакам можно было безошибочно заключить, что суаре интим в тесном кругу вряд ли состоится.
Однако Филипп Степанович, мужественно загородив собою Ванечку, выступил вперед с покупками и сказал:
— А я не один, Яниночка. Мы, Яниночка, вдвоем, как видишь. Я и наш кассир. Я его, знаешь ли, прихватил с собою к обеду. Ведь ты нас покормишь, киця, не правда ли? А я тут кой-чего прихватил вкусненького к обеду. Ну и напитков, конечно, хе-хе… Прошу любить да жаловать… Суаре, как говорится, интим… И конфеток для дам… В общем, все останутся довольны в семейном кругу.
Говоря таким образом, Филипп Степанович угасал и, медленно шаркая калошами, приближался к супруге, которая продолжала неподвижно и немо стоять в дверях, озирая мужа совершенно беспристрастным взглядом. Только розы на ее бедре колыхались все медленней. Но едва Филипп Степанович приблизился к ней на расстояние своего тщательно сдерживаемого дыхания и едва это дыхание коснулось ее раздувшихся ноздрей, как дама схватилась пальцами за свое толстое голое горло, другой рукой деятельно подобрала капот и плюнула Филиппу Степановичу в самую кисточку на подбородке.
— Пошли вон, пьяные паршивцы! — закричала она истерическим, нестерпимым тенором на всю лестницу.
Затем вспыхнула всеми своими рябыми розами и с такой необыкновенной силой захлопнула дверь, что казалось, вот-вот из всех