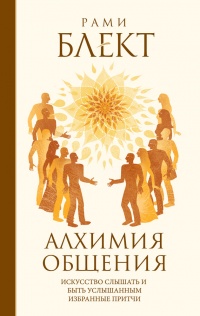на проверке доказательств, уступила место растерянному скептицизму, который в конечном итоге приводит к принятию официальной позиции»[512].
Благодаря выжившим, информаторам, историкам, журналистам и правозащитным организациям ранее отрицаемые истории раскрываются, а нынешние опровержения становятся прозрачными. Но по мере увеличения объема документации растет и скептицизм в отношении существования объективной истины. Согласно этому эпистемическому релятивизму, установленные научные факты являются всего лишь социальными конструкциями. Нарративы одинаково и открыто соревнуются в неопределенных играх правды. Возможно, однажды все эти утомительные дебаты о том, какой урок можно извлечь из прошлого, станут менее острыми. В конце концов, если одна история ничуть не хуже другой, зачем бороться за свою версию? Вместо поучительной язвительности мы будем иметь неразрешимое безумие психиатрической больницы, в которой сразу несколько пациентов утверждают, что они – Иисус Христос[513].
Признаком того, что это безумие уже распространилось в нашем обществе, является то, что именно юристам доверено выносить решения по историческим повествованиям. При обеспечении соблюдения законов против отрицания геноцида судам все чаще придется выносить решения по этим эпистемологическим битвам. Когда юридический дискурс совпадает со здравым смыслом, это может быть не так уж и плохо. Обратите внимание, например, на простые слова судьи Верховного суда Лос-Анджелеса, вынесшего в 1981 году решение по делу «Мермельштейн против Института исторического обзора [фальшивого академического института в индустрии отрицания Холокоста]»: «Суд обращает внимание на тот факт, что евреев убили газом в концентрационном лагере Освенцим в Польше». Существование Холокоста не подлежит обоснованному оспариванию: «Его можно немедленно и точно определить, обратившись к источникам разумной и неоспоримой точности. Это просто факт»[514].
Это просто факт. Такие факты, конечно, могут быть неуловимыми, а их детали - непроницаемыми. Даже полностью транслируемое по телевидению злодеяние, каждый записанный кадр которого повторяется каждый час в выпусках новостей (в отличие от многих не попавших в кадр убийств), редко бывает полностью однозначным. Все стороны в войнах в бывшей Югославии будут отрицать реальность, интерпретацию и значение каждого такого образа. Каждый убедил себя в своей невиновности. Но это только их убеждение. Где-то есть неуловимая точка обзора, которая находится не на стороне какой-либо стороны, а лишь несколько за пределами территории обеих сторон. Отсюда можно наблюдать рутинное преувеличение и подтасовку фактов; сокрытия могут быть сфотографированы (тайные могилы, уничтожение улик, очистка ранее сфотографированного места захоронения), а голоса эквивалентов Караджича записаны на пленку («Так называемая резня»; «нет приказа их убивать»); истории о зверствах являются частью международного заговора против сербов, возглавляемого странами Ближнего Востока, которые контролируют Запад, нефтяные рынки и CNN»; «тела были солдатами-мусульманами, убитыми в законных боевых действиях»). С этой точки зрения наблюдатели могли бы согласиться, по крайней мере, с одним утверждением истины: за пять дней солдаты боснийских сербов убили по меньшей мере 7000 в основном безоружных боснийских мужчин-мусульман. Когда будет создан Международный уголовный суд, тогда – несмотря на все недостатки судебного дискурса как хранилища истины – можно будет прийти к выводу, подобному выводу судьи из Лос-Анджелеса: «Это просто факт».
Такие концепции, как «сокрытие», предполагают, что скрывается не очередной риторический прием, а повествовательная истина с моральным подтекстом. Некоторые люди отдавали приказы, другие подчинялись им, еще кто-то был равнодушным наблюдателем. Это не означает, что тексты и изображения подобных событий имеют для всех одно и то же значение. Вся моя книга пытается продемонстрировать обратное. Отчаяние Брехта, Бенджамена, Леви, Оруэлла и Штайнера проистекает из испытываемого чувства неспособности отобразить уникальность каждого конкретного злодеяния, а также передать их универсальный смысл. Такое же отчаяние было у журналистов в Руанде в 1994 году: как описать убийство людей с помощью мачете, дубинок и кухонных принадлежностей; 800000 убито за сто дней, по пять человек убито каждую минуту – в три раза больше, чем число евреев, погибавших за такой же отрезок времени в период Холокоста, – число, которое привело бы к гибели десяти миллионов человек за четыре года. Корреспондент Associated Press в Западной Африке пишет: «Я сомневаюсь, что есть какое-либо другое место в мире, где так много людей, зарабатывающих на жизнь писательством, использовали фразу: «Слова не могут описать…»[515].
Писатели, размышляющие о Холокосте, и журналисты, пишущие о Руанде, выражают одно и то же обескураживающее ощущение: паралич языка, непреодолимую пропасть между языком и событием, которое он должен описывать. Это не имеет ничего, вообще ничего общего с «доказательством» существования события. Вы не можете говорить о «неадекватности» или апеллировать к поэтическому молчанию, не зная, где находится неадекватность и о чем вы молчите.
Это не тот предмет, который можно «сделать проблемным» или «поместить» в какой-нибудь лозунг на футболках о «вымышленности фактов». Фридлендер терпеливо объясняет проблему, читая стандартную историческую книгу, описывающую массовые убийства и депортации в Хелмо[516]. Этот текст, отмечает он, является научным и основанным на фактах и служит именно тем источником, который можно использовать в борьбе с отрицанием. Но сама фактичность блокирует эмоциональную привлекательность. Текст имеет как бы две половины. В части А записано, что «евреи некоторых эшелонов … не были приписаны к местным гетто или лагерям». В части Б отмечается, что «эти евреи были расстреляны сразу по прибытии». Здесь есть несоответствие, нереальность: часть А описывает административные вопросы обычной речью; часть Б внезапно описывает массовые убийства. Но стиль не меняется и не может измениться: «Естественно, что вторая половина текста может лишь продолжать бюрократический и отстраненный тон первой. Это нейтрализует всю дискуссию и внезапно ставит каждого из нас, прежде чем мы успеем взять себя в руки, в ситуацию, не чуждую отстраненной позиции координатора истребления»[517].
Этот ужасный вывод не является усталым эстетическим жестом. Это происходит из-за отчаяния репрезентации: ощущения, что обычные способы сообщения правды не могут передать действительно жестоких вещей, не говоря уже о том, чтобы вызвать «адекватную» реакцию. Этот тезис совершенно отличается от утверждения, что не может быть доступа к истине – идеи, которая сейчас циркулирует на культурном рынке. Тираны, которые никогда не слышали слова «нарратив», действительно признают хорошую историю. Они могут рассчитывать на то, что предприниматели в сфере культуры доведут это послание до уровня MTV. Литературные деятели как раз для этого подходят. Как любезно объясняет романист Э.Л.Доктороу: «Больше не существует таких вещей, как художественная или документальная литература – есть только нарратив».
Моральный релятивизм
Респектабельные идеи о моральном и культурном релятивизме также стали культурным товаром. Нам говорят, что игра нацелена на универсальность. В отсутствие основополагающей основы морали невозможно отстаивать универсальные ценности, подобные тем, которые закреплены в декларациях по