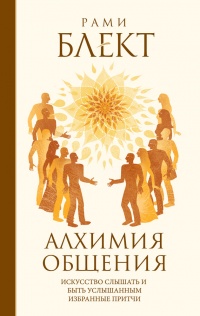Книга Состояния отрицания: сосуществование с зверствами и страданиями - Стэнли Коэн

- Жанр: Политика / Психология
- Автор: Стэнли Коэн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Ставим фильтр, закрываем глаза, отключаемся, не желаем знать, надеваем шоры, видим только то, что хотим видеть - все это формы «отрицания». Алкоголики, отказывающиеся признавать свою зависимость, люди, отмахивающиеся от подозрений в неверности партнера, жена, не замечающая, что муж издевается над их дочерью, все они находятся в состоянии «отрицания». Правительства отрицают свою ответственность за зверства и планируют их так, чтобы добиться «максимального отрицания». Комиссии по установлению истины пытаются преодолеть предание забвению и отрицание ужасов прошлого. Страны-наблюдатели отрицают свою ответственность за вмешательство. Есть ли что-то общее у этих явлений? Отрицая что-либо, осознаем ли мы, что делаем, или это бессознательный защитный механизм, защищающий нас от нежелательной правды? Могут ли существовать культуры отрицания? Как такие организации, как Amnesty International и Oxfam, пытаются преодолеть очевидное равнодушие общества к страданиям и жестокости в далеких странах? Всегда ли отрицание так плохо, или же позитивные иллюзии нам нужны, чтобы сохранить здравомыслие? «Состояния отрицания» — это первое всестороннее исследование личных и политических способов избежать или уклониться от неудобных реалий. Оно базируется на широком спектре материалов от клинических исследований депрессии до изображений страданий в СМИ, объяснений «пассивного наблюдателя» и «усталости от сострадания». Книга показывает, как организованные злодеяния — Холокост и другие акты геноцида, пытки и политические убийства — отрицаются преступниками и сторонними наблюдателями, теми, кто стоит в стороне и ничего не делает.
В формате PDF A5 сохранен издательский макет.
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Состояния отрицания: сосуществование с зверствами и страданиями - Стэнли Коэн», после закрытия браузера.