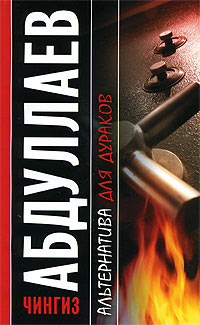В прошлом месяце султану Мухаммеду V разрешили вернуться из ссылки на Мадагаскаре, куда французы отправили его три года тому назад. Он должен вот-вот прибыть. Это начало конца, хотя по иммигрантам этого не скажешь. Земля под ними горит, а им наплевать — они веселятся. Я горю желанием свидеться с М., которая уже несколько месяцев занимается своим разводом. Всех нас истребит огонь.
Еще один сын, которого я решил назвать Хавьером. Это имя мне всегда нравилось и не имеет никакого отношения к семье. Впервые я смотрю на свое чадо и чувствую не то чтобы прилив отцовской любви, а безумную надежду. Почему-то этот младенец со сжатыми кулачками и крепко зажмуренными глазками преисполняет меня верой в то, что великие дела возможны. Он единственный светлячок в моей перевалившей через сорокалетний рубеж жизни.
Я лежу под сеткой с Хавьером на груди. Пальчики его раскоряченных по-лягушачьи ножек упираются мне в живот. Моя ладонь накрывает всю его спинку. Он спит и время от времени бессознательно хватает губками мой сосок, проверяя, не окажется ли там немножко молока. Как быстро в наши жизни входит разочарование!
Когда я работаю, он лежит на одеяле. Я подробно рассказываю ему о картинах, о замыслах, о влияниях. Он медленно сдвигает и раздвигает ладошки и ступни, будто беззвучно мне аплодируя. Я смотрю на него и чувствую, что даю трещину. Его мягкое крошечное тельце, его большие карие глаза, его покрытая пушком голова — все это соединяется в натиске, и, словно поддетый всунутым между ребер зубилом, я распахиваюсь.
27
Воскресенье, 22 апреля 2001 года,
дом Фалькона, улица Байлен, Севилья
Первой в одиннадцать утра явилась Хуанита, племянница Энкарнасьон. Фалькон еще нетвердо держался на ногах после большой дозы снотворного. Дополнительная таблетка, принятая им в четыре часа утра, чуть не угробила его.
Он принял душ и надел серые брюки, оказавшиеся такими свободными в талии, что ему пришлось искать пояс. Пиджак тоже висел у него на плечах как на вешалке. Он похудел. В зеркале отражались впалые щеки, провалившиеся, мрачные глаза. Он превращался в свое собственное представление о сумасшедшем.
Хуанита металась по кухне в темных пухлых кроссовках, которые взвизгивали, чиркая по полу. Когда она приветственно мотнула головой, лавина черных волос качнулась у нее за спиной. Фалькон проверил запасы мансанильи в холодильнике и спустился в винный погреб за красным вином к жареному барашку.
Погреб располагался в задней части дома под мастерской. В этом темном помещении Фалькон проявлял пленки и печатал фотографии, но он не заходил в него с тех пор, как расстался с Инес. Фотопринадлежности валялись в углу. От стены до стены была протянута леска с прищепками для мокрых отпечатков. Фалькон обожал этот трепет открытия, когда чистый лист плавно погружался в проявитель и из воды медленно выступало лицо. А не то же ли самое у него в голове? Может, прячущимся в ней образам только и нужно чуть-чуть проявителя, чтобы они обрели очертания, прошли через его сознание и разрешили загадку?
Металлические стеллажи для бутылок были разделены на две части: французские и испанские вина. Фалькон никогда не прикасался к французским винам: все они были куплены его отцом и стоили дорого. Но сегодня ему хотелось праздника. Последние абзацы, прочитанные им прошлой ночью, растрогали его до слез, и он чувствовал потребность выпить за любовь, которую питал к нему его покойный родитель. Их глубокая внутренняя связь получила новое подтверждение, и он уже чуть мягче смотрел на все пороки и измены отца. Фалькон снял со стеллажа «Шато Дюар-Милон-Ротшильд», «Шато Жискур», «Монтраше», «Поммар», «Кло-дез-Юрсюль». Отнеся бутылки наверх, в столовую, он поставил их на буфетную полку. Возвращаясь из погреба во второй раз, он увидел в нише над дверью сосуд, похожий на погребальную урну, которого никогда прежде не замечал.
Сосуд был не более пятнадцати сантиметров высотой, слишком маленький, чтобы вместить человеческий прах. Фалькон взял его и перенес на столик, включил верхний свет. Пробка представляла собой простой глиняный конус, запечатанный воском. На неглазурованной терракоте не было никаких надписей. Фалькон взломал воск, вынул пробку и перевернул сосуд. На стол посыпались желтоватые крупинки. Он поворошил образовавшуюся кучку пальцем. Среди крупинок попадались и коричневые. Те, что побольше, были довольно острыми. Вдруг от этой трухи на Фалькона повеяло какой-то жутью, ему показалось, что это раздробленные кости. Преисполнившись отвращением, он поспешил уйти.
Первым приехал Пако со своим семейством. Женщины поднялись наверх, дети принялись носиться по галерее, а Пако втащил в дом целый jamon, который привез из Хабуго. Они нашли в буфете стойку для окорока и закрепили в ней jamon. Пако заточил длинный узкий нож и принялся нарезать тончайшими ломтиками нежное темно-красное мясо, а Хавьер тем временем наполнил бокалы мансанильей.
Хуанита накрыла стол во внутреннем дворике и вынесла маслины и прочие pinchos.[111]Пако выставил блюдо с окороком. Прибыла Мануэла со своей компанией, и все они стояли во дворике, потягивая мансанилью и покрикивая на носившихся сломя голову детей. Из взрослых гостей только сестра Алехандро, сама тощая как богомол, не сказала Хавьеру о его нездоровой худобе.
Пако был в приподнятом настроении и оживленно болтал о своих чудесных быках, которых привезли в это утро для завтрашней корриды. Хотя рана, нанесенная рогом соперника красавцу retinto, еще не совсем затянулась, бык был очень силен. Пако называл его Фаворитом. Единственное, о чем он предупредил Хавьера, — это что кончики рогов у него необычно загнуты вверх и близко сведены. Даже если бык низко опустит голову, атаковать его спереди будет трудно.
В четыре часа был подан жареный барашек, и они уселись за стол. Мануэла тотчас же оценила качество вина и спросила, сколько еще бутылок припрятал братишка. Чтобы отвлечь ее внимание, Хавьер рассказал ей о маленькой урне. Мануэла загорелась желанием ее увидеть, и, когда с едой было покончено и Пако закуривал свою первую «Монтекристо», Хавьер принес урну из погреба. Мануэла сразу же узнала ее.
— Очень странно, — сказала она. — Не понимаю, как папа потерял мамины драгоценности, а это же притащил сюда из Танжера.
— Брось, Мануэла, он сроду ничего не выбрасывал, — вставил Пако.
— Но это мамина вещь. Я ее помню. Она стояла на туалетном столике с зеркалом дня два-три… примерно за месяц до того, как мама умерла. Я спросила ее, что это такое, потому что эта штуковина очень отличалась от всего, что она держала на туалетном столике. Я думала, может, внутри какое-то снадобье от той берберки, которая была ее горничной. Мама сказала, что в этом сосуде заключен дух чистого гения и его ни в коем случае нельзя открывать… странно, да?