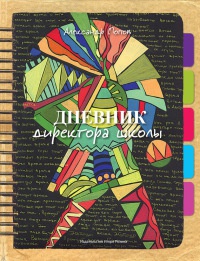— Тысяча!
— Да.
— Когда я работал на ферме в Богемии, то зарабатывал десять крон. Десять! — усмехнулся Броучек и показал все пальцы на руках. — На десять крон можно было купить все, что душа пожелает. Килограмм кофе, или карты, или носовой платок, или бутылку коньяка, пару сапог, или билет в Градец-Кралове на целый день, газету, английскую шляпу, топор, мышеловку, губную гармонику, пучок гвоздик или пакет апельсинов. А когда нам платили в последний раз… какое у нас выходило жалованье?
— По пятьсот миллионов крон.
— Точно. А купить ничего нельзя было, кроме подсолнуховых семечек, да и те — сто миллионов за кулек. Может статься, оттого, что Сибирь такая большая. Может быть. Наверное, деньги тоже ничего не значат, как и версты. В Богемии как пройдешь десять верст — уже всё переменилось. А тут идешь и идешь себе тысячи верст, а всё по-прежнему. Простор, березняк да вороны. Это Масарык нарисован?
— Да.
— Хорошо нарисовал, похож. И когда же президент поможет нам домой вернуться?
— Не знаю.
Броучек шмыгнул носом и нагнулся, почесал нос о дуло винтовки.
— А может быть, ему в Праге и так хорошо. Наверное, во дворце теперь. Зря он нас бросил в Сибири, а? Наверное, и забыл про нас уже давно…
— Нет, — возразил Йозеф. — Понимаешь… когда французы, англичане и американцы собрались и решили, как им поделить империю, то каждый, кто хотел себе урвать кусок, должен был принести что-нибудь к общему столу. Расплатиться чем-нибудь ценным вроде золота, угля… или крови. А у Масарика не было ни золота, ни угля.
— Разве не было? — удивился Броучек. — А я-то думал, он богат…
— Только не такими сокровищами.
— Значит, президент решил расплатиться кровью?
— Верно.
— Нашей кровушкой!
— Точно.
— Но мы же с немцами дрались! Разве той крови не достаточно?!
— Да, в той битве мы хорошо себя показали, но теперь, когда Германию разбили, французы, англичане и американцы боятся красных.
— Потому что те расстреляли царя?
— Ну, прежде всего потому, что красные хотят поделить всю собственность.
— Ну да, слыхивал я об этом, — признался Броучек, кивая, — по-моему, правильно. Разве не так всё будет в Чехословакии, когда мы вернемся домой?
— Вряд ли, — произнес Муц. — А ты хочешь, чтобы на родине было именно так?
— Да. Сейчас у меня ничего нет. Я всегда часы хотел, как у дедушки. И пианино. А еще — костюм, как те, что англичане надевают на скачки.
— Ты забыл про патефон.
Броучек повел плечами.
— Пусть уж патефон кому-нибудь другому достанется. Но вернуться и разузнать насчет часов не помешало бы. Давно пора. С красными мы уже сражались. Все они точь-в-точь русские. Нас они сюда не приглашали. И без нашей помощи у них славно получается друг друга убивать. Наверное, Масарик захотел основать Чехословацкую империю, вроде Британской или Французской. Небось думает, если англичане могут управлять целой Индией со своего островка, то у чехов и словаков получится завладеть Сибирью.
— Нет, Масарик не может так думать.
— Ну, значит, капитан решил, — не унимался Броучек.
— Верно.
— Кое-кто говорит, что Матулу пора прибить.
— Тогда мы станем мятежниками.
— Верно.
— Капитан платит Смутному, Ганаку, Клименту, Дезорту и Бухару в долларах, чтобы стерегли его, и у них пулеметы «максим».
— Но ты бы смог вывести нас отсюда. Довести до Владивостока и без капитана.
В дверь робко постучали.
— Там пан Балашов снаружи, — пояснил Броучек, поднимаясь с кровати.
— Я его видел. Спустись во двор, спроси у Нековаржа, всё ли в порядке с шаманом.
— Ушел Нековарж. Присматривает за местными — теми, что собираются в пристройке к лавке Балашова.
— Так, значит, перед двором часовых не осталось?!
— Только колдун, да и он на цепи, так что не уйдет далеко.
— А что, если кому-нибудь вбредет в голову пробраться внутрь? — спросил Муц.
Оба чеха выбежали в темный коридор, пронеслись мимо Балашова — тот что-то прокричал вслед. В тишине сапоги Йозефа и Броучека молотили по коридорам, приклад винтовки капрала, громыхая, задевал о пороги. На улице похолодало, пошел дождь.
Они пробежали через арку и достигли конуры шамана, казавшейся в свете, исходившем из окна комнаты Муца, неровным пятном на стене.
Сапог Муца ударил по чему-то стеклянному. Лейтенант присел на корточки и поднял пустую литровую бутыль. Наружу выплеснулись остатки неочищенного спирта, слизистую глаз ожгло резким запахом.
Офицер бросил бутыль в свежую жижу, закашлялся и протер глаза.
Шаман сидел в грязи, прислонившись спиною к конуре, сложив руки поверх бубна на животе.
Йозеф тряхнул тунгуса за плечо. Кошачьим хором откликнулись украшавшие костюм туземца проржавевшие фигурки животных, монеты и мятые крышки от консервов.
Муц достал из кармана зажигалку и поднес пламя к лицу колдуна.
Дождевые потоки омывали всклокоченную бороду от крови и желчи. Тунгус закашлялся; повеяло желудочным соком и алкоголем. Веко здорового глаза подрагивало, но сам глаз так и не раскрылся.
Йозеф снова тряхнул шамана.
— Эй, — обратился лейтенант к пленнику, — кто тебя напоил?
— Очень далеко на юг, однако, — еле слышно ответил шаман. Несмотря на сильный тунгусский говор и порожденную возрастом, болезнью и выпивкой хрипоту, колдун изъяснялся по-русски довольно внятно. В шепоте проступали звуки, точно последние красноватые отблески в углях догоревшего костра. Слова прозвучали отчетливо и походили скорее на ответ обессиленного, нежели пьяного.
— Тебя кто-то ударил? — продолжал расспросы Муц.
Губа тунгуса оказалась рассечена.
— Я сказал, что мне не найти его брата в других мирах, — пояснил колдун. — Я только слышал его там, внизу, где шибко воняет. Слышал, как его брат плачет: очень сильно хотел тело свое вернуть, однако.
— Чей брат? — Йозеф повернулся к Броучеку: — Ты понимаешь, о чем он?
Капрал пожал плечами:
— Моему папаше тоже случалось напиться, и он орал разную чушь часами, вот только никому не приходило в голову поинтересоваться, что он имеет в виду.
Голова тунгуса поникла набок, он закашлялся, туземца рвало. Лейтенант вновь тряхнул пленника за плечо:
— Как бы нам поместить тебя в конуру?
Броучек заметил:
— У вас же ключ есть.
Муцу сделалось стыдно. Он принялся шарить по карманам в поисках ключа от амбарного замка, державшего тунгуса прикованным к конуре. Пленник рухнул в грязь. Казалось, агония придала умирающему силы: тот вздохнул и открыл глаз.