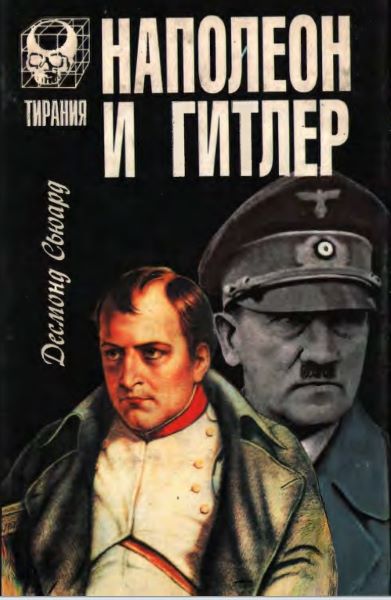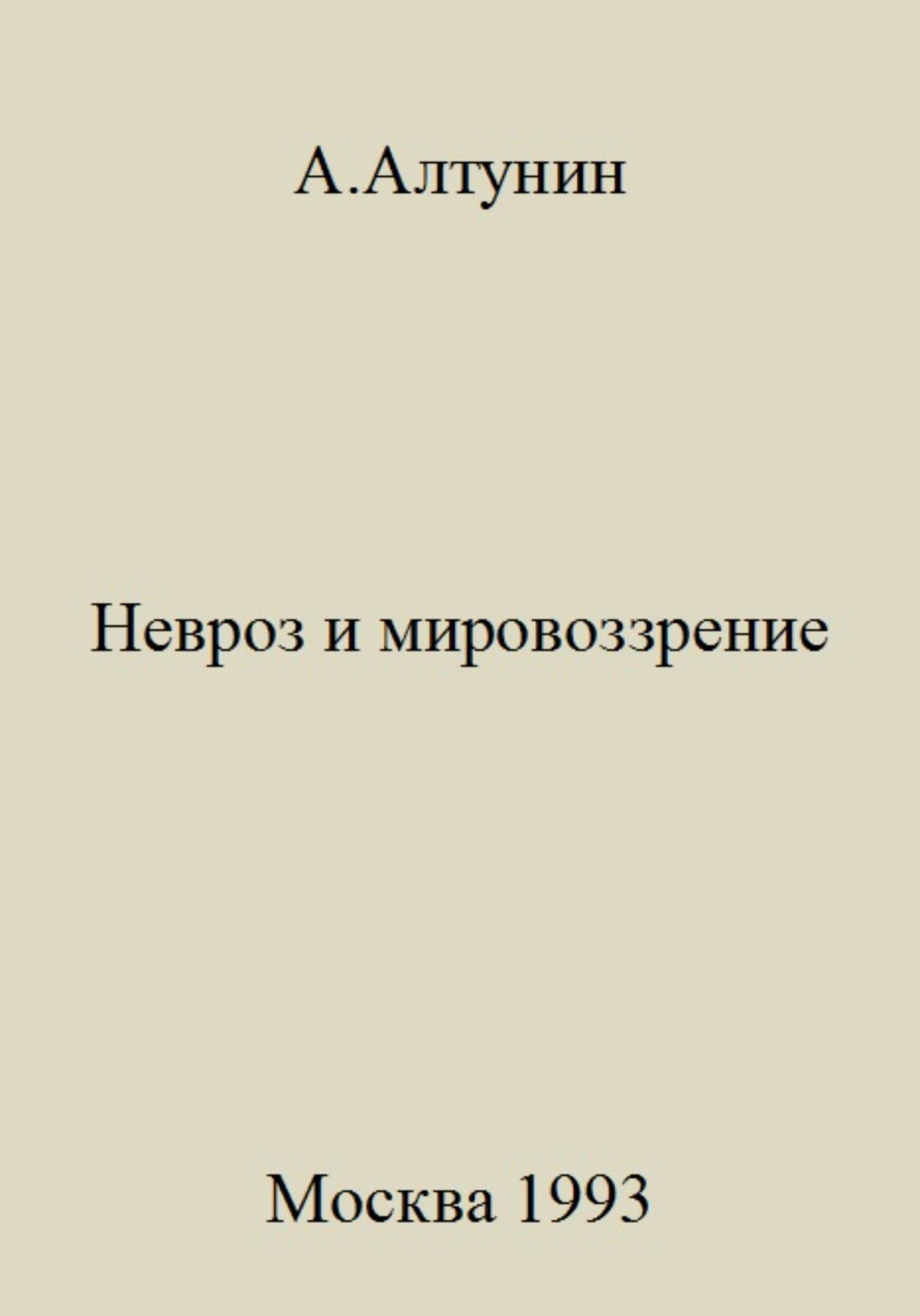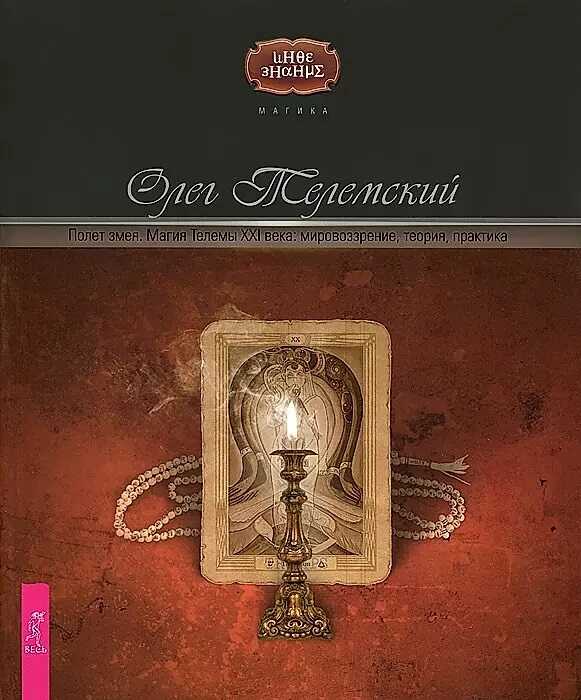представлялся таким привлекательным многим современникам, полагает Бавай. «В меньшей степени его можно понять как проект антимодерна, а в большей — как проект другого модерна»[144]. Это толкование соответствует моим собственным тезисам, которые я подробно развивал во многих работах[145].
В отношении общественно-политической сферы Бавай констатирует следующее: «Национал-социализм содействовал эрозии традиционных связей, ослаблению и детрадиционализации социальной структуры германского общества, при том, что модернизация проходила по-разному из-за большой устойчивости сельской и религиозной среды»[146]. Бавай подчеркивает революционные претензии национал-социализма, а также осуществление политической революции в 1933–1934 гг., оппонируя, однако, тезису о том, что речь шла и о социальной революции.
Вопрос о модернизме национал-социализма очень занимает исследователей и сегодня. Марк Роузман отмечал в 2011 г.: «Более чем другие недавние исторические явления и проблемы, Третий рейх вызвал пристальное внимание к его отношению к современному миру»[147]. Он видит проблему споров в неясности по поводу того, что означает модернизм. С одной стороны, были отброшены нормативные импликации старых теорий модернизации (в которых модернизация была неразрывно связана с демократизацией и плюрализмом), с другой — появился, как выражается Роузман, новый «контрнарратив „фатального потенциала“ современности, и отчасти то, что нацисты были продуктом своей конкретной эпохи, а не общего модерна».
Роузман, соглашаясь с моей точкой зрения, что тезис о якобы обращенных в прошлое аграрных утопиях Гитлера и национал-социалистов не может больше сохраняться, задает, однако, вопрос: «Если ни нацисты, ни многие их сторонники не смотрели назад (разве что в том смысле, что, как националисты, взывают к мифам и символам прошлого), то что значит говорить, что они были современными?»[148] Для него спор о национал-социализме и модернизации является прежде всего доказательством существования предела теории модернизации: «Нацизм, безусловно, показал, на что способно современное общество. Возникшее в результате разочарование в атрибутах передовых индустриальных обществ было глубоким и продолжительным, оно заставило нас переосмыслить такие понятия, как прогресс, цивилизация и модернизация. Однако попытки связать национал-социализм с повсеместными или общими элементами современности показали не только особенности этой странной и ужасной диктатуры, но и фатальную ограниченность современности как концепции, с помощью которой можно объяснить изменения в современном мире»[149].
Национал-социалистическая революция?
Гитлер и национал-социалисты видели себя, как доказывается в настоящей книге, революционерами. Тезис о том, что захват национал-социалистами власти был «революцией», не нов. Его отстаивали многие исследователи еще до меня. Продолжается дискуссия о том, действительно ли речь шла о революции и если да, то каковы были ее содержание и цели.
Франц Янка свел это в своей вышедшей в 1997 г. книге «Коричневое общество. Форматирование народа» к простой формуле: «Если подумать о том, что было устранено, выжжено и преобразовано в Третьем рейхе и Третьим рейхом, то без понятия революции не обойтись. Национал-социализм затмил все, что произошло до него»[150]. Именно запланированные социальные преобразования, полагает Янке, сделали национал-социализм для людей лучом надежды и произвели революционный эффект[151].
В Третьем рейхе, пишет Янка, доход, положение и происхождение более не являлись критериями, по которым можно было бы определить социальный статус человека внутри сообщества. «Благодаря этому новому определению критериев национал-социалистам удалось относительно быстро выполнить обещание создания бесклассового общества. При этом, правда, никоим образом не устранялись фактические различия или их причины; это происходило скорее за счет новой интерпретации того, что в обществе считалось ценным, и тем самым влияло на изменение социального сознания отдельного человека, поскольку у все большего числа немцев возникало чувство, что их социальное положение улучшилось»[152].
Янка серьезно относится к самоидентификации Гитлером себя как революционера и полагает, что при отрицании применения понятия революции к национал-социалистам играет роль представление, «что переворот в развитии истории классовой борьбы должен был бы обеспечить качественный скачок и тем самым представлять собой „хорошую“ революцию»[153]. Гитлер не был, считает Янка, жалким подобием какого-то исторического образца, «он был „homo novus“, который верил в свою миссию революционера, и многие в этом верили ему»[154].
Моммзен рассматривал в 2000 г. вопрос о том, следует ли называть захват власти национал-социалистами революцией или контрреволюцией. Формулировки, подобные нижеследующей, мало что внесли в прояснение этого вопроса: «Можно было бы считать критиканством сознательное ограничение понятия революции феноменами резкой смены общественной или политической системы, при котором не считается революцией характерная для национал-социализма буйная гиперболизация мировоззренческих целей, т. е. притягивание за уши химерических хилиастических видений». «Фашистские движения», и особенно национал-социализм, продолжает Моммзен, следует толковать как «анти- или скорее постреволюционные формации», и нужно «уяснить для себя, что фашизмы следует понимать не как находящиеся на том же историческом уровне варианты коммунистической разновидности тоталитаризма, а как их реактивную симуляцию». Одновременно было бы заблуждением подчеркивать лишь контрреволюционный характер национал-социалистического движения, «поскольку, как все новые социальные движения в правом партийном спектре, они нацелены на фундаментальную перестройку буржуазных структур XIX в.»[155]. Чувствуется явное нежелание называть национал-социалистическую революцию таковой в отличие от революции коммунистической; в то же время отчетливо видно, что приводимые аргументы слабы и расплывчаты.
Ричард Эванс, выпустивший с 2003 по 2008 г. трехтомное описание Третьего рейха, рассматривает этот вопрос в 6-й главе первого тома. Его ответ: незаконность захвата власти национал-социалистами в первой половине 1933 г. превратила его в «революционный переворот», хотя риторика «национал-социалистической революции» замышлялась как невысказанное оправдание противозаконных действий[156]. «Насилие, игравшее главную роль при захвате власти, придало ему отчетливо революционный характер»[157].
Однако в вопросе о том, следует ли называть национал-социалистическую революцию таковой, Эванс настроен скептически. Французская революция, пишет он, бывшая прообразом всех современных революций, предвосхитила элементы великих идеологий, наложивших отпечаток на Европу в течение следующих двух веков — от коммунизма и анархизма до либерализма и консерватизма. «Но национал-социализм к ним не принадлежал. В соответствии со своей самоидентификацией национал-социалисты хотели обратить вспять все достижения Французской революции. <…> Все взгляды, возникшие в процессе Французской революции, подлежали уничтожению»[158].
Если ненадолго последовать за ходом этой мысли Эванса, то возникает вопрос: может быть, как раз поэтому нужно называть национал-социализм революцией? Если революция есть радикальный разрыв с прошлым, то как раз такое движение, считавшее себя самым радикальным отрицанием всех традиций со времен Французской революции, должно быть характеризовано как революция. В этом отношении аргументация Эванса противоречива[159].
Эванс ссылается и на еще одно отличие. Французская революция, пишет он, «имела ясный канон учений», как и Русская революция в октябре 1917 г. «Национал-социалисты, напротив, не только не имели определенного плана переустройства общества, но даже и готовой модели общества, которое