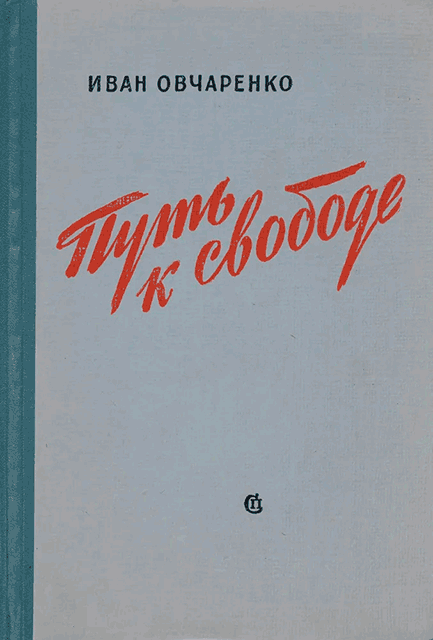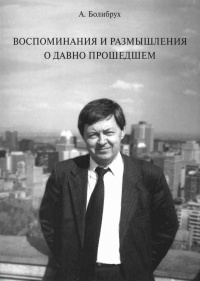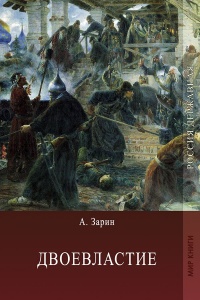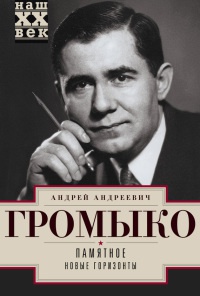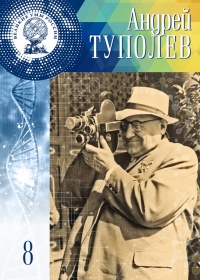мне ежедневно сообщала по секрету Елизавета Владимировна, был слух о том, будто я уезжаю из-за колокола, пожертвованного супругой Николы Пашича[29] русской белградской церкви. Действительно, так как местное сербское духовенство препятствовало поднятию этого колокола, а Министерство веры, наоборот, настаивало, и русские очутились в щекотливом положении, то бывший посланник В. Н. Шрандтман[30], в качестве председателя приходского совета, вышел из затруднения так: предложил после поднятия колокола звонить в него «дипломатично, корректно и тихо», чтобы не раздражать соседних сербских священников. Так как, по слухам, мне было обещано, что я первый ударю в поднятый колокол, то предложение г. Штрандтмана меня глубоко оскорбило. Говорят, что между нами с глазу на глаз произошло бурное объяснение. Что я потребовал от Штрандтмана, чтобы он сам взял веревку и показал, какой звон можно считать дипломатичным. И так как посланник отказался от этого, заявив, что у меня самого должен быть достаточный такт, чтобы определить на Балканах силу удара, я, возмущенный, ушел из Совета, послал отказ от звания члена и решил немедленно покинуть Белград.
Как бы то ни было, но в одном русская колония оказалась права: Иван Александрович действительно начал осаждать учреждения, от которых зависит перемещение беженцев по земному шару. И меня даже тронуло, как чуть ли не со слезами на глазах одна почтенная беженка уговаривала нас не уезжать.
– Что вы делаете, господа? Ведь вас похитят в Париже большевики! Не читали историю про грузина?
Писать о мытарствах с визами теперь, на шестом году беженства, старо и не модно. Вопрос этот разработан лучшими эмигрантскими умами уже настолько глубоко и всесторонне, что останавливаться на нем совершенно не стоит. Гораздо тяжелее и острее для выезжающих из Югославии беженцев другой проклятый вопрос: как вывезти обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. Или как получить разрешение на переезд через границу, имея в чемодане серебряную ложку.
У нас с Иваном Александровичем, например, есть две серебряные реликвии. У меня – подстаканник, подаренный во время эвакуации старухой-кормилицей. У Ивана Александровича вещь поменьше, но тоже валюта: серебряный двугривенный. На вывоз обоих этих предметов роскоши требуется разрешение Высшего Таможенного Совета. А до подачи прошения в Совет, необходимо еще удостоверение русского консула, что двугривенный вывезен именно из России, а не куплен в Белграде как сербское производство.
– Брось, Ваня, глупости, – мрачно говорю я, видя, как друг мой сидит, склонившись над столом, и прилежно составляет подробную опись монеты.
– Охота из-за двугривенного, в самом деле!
– А твой подстаканник!
– Я его везу контрабандой, конечно.
– Как? Что? Контрабандой? Я не еду, в таком случае! Не терплю незаконных поступков!
Весь ноябрь и декабрь, уже имея визы, мы нервно ждали ответа таможни. Иногда нам казалось, что разрешение вот-вот будет на днях. Тогда я торопливо говорил другу:
– Тащи, Ваня, дрова. Топи во всю… Не оставлять же домохозяину целых полметра!
И мы снимали пиджаки, расстегивали ворот рубахи… Вздыхали. Но топили, топили до головокружения. А потом, вдруг, оказывалось, что заседания Таможенного Совета насчет подстаканника и двугривенного совсем не было. Даже неизвестно, когда будет. И я мрачно бурчал, видя, как друг копошится у плиты:
– Куда суешь? Опять? Что за наказание, Господи? Прямо не печка, а прорва!
День отъезда, наконец, назначен. Взяты даже билеты. Сначала предполагалось шикнуть: на деньги за проданные кровати проехать в Ориент-Экспрессе. Затем, однако, раздумали: не лучше ли просто во втором классе? После этого, вдруг, одному из нас, не помню именно, кому, пришла идея: а хватит ли на второй класс? Разложили, подсчитали, увидели, что перевоз двугривенного и подстаканника уже обошелся нам в 50 франков, вспомнили также, совершенно случайно, что в Париже за отель тоже придется платить, и остановились на третьем.
В третьем, пожалуй, даже удобнее. Дерево всегда гигиеничнее материи и, кроме того, полиция будет спокойнее, зная, что мы – российские буржуи, не рабоче-крестьянская власть.
Накануне отъезда интимная группа друзей чествовала нас прощальным обедом. В первый раз я испытывал это грустное чувство – быть объектом прощально-обыденного торжества. Временами мне казалось, будто я покойник, и надо мною кто-то причитает и плачет. Временами, наоборот: ясное, твердое ощущение, что я юбиляр. Подобная действенность, подобное качание настроения между поминками и заздравными тостами так меня расстроило, что я прослезился даже…
А наш общий друг, беженский любимец, Сергей Николаевич, сидел возле, и увещевал, чтобы мы крепко держались против парижских соблазнов:
– Не прожигайте жизни, смотрите!
– Не прожжем, Сергей Николаевич, будьте спокойны.
– Не поддавайтесь угару и вихрю наслаждений, прошу вас!
– Не поддамся, Сергей Николаевич.
– А, главное, не швыряйте деньги направо-налево. Это так легко там в Париже. Ваше здоровье, господа! Счастливой дороги!
«Возрождение», Париж, 25 января 1926, № 237, с. 3.
III.
Странная вещь. Как ни трудно нам жить, как ни старается судьба сбить с головы беженца последнюю шляпу, сорвать с ног единственные ботинки, но против буржуазности нашей природы, очевидно, бессилен сам рок. То пристанет к нам какой-то кофейник, то неожиданно появится в хозяйстве чайник. А за ними, глядишь, постепенно пробираются в комнату примус, спиртовка, вазочка для цветов, неизвестно откуда взявшийся слоник, подкова на счастье. И вещи, выигранные на беженских благотворительных лотереях: детская вязанная шапочка, подушка для иголок, акварель г-жи Дудукиной в золотой раме под стеклом.
Кажется, английская пословица (при чем тут национальность?), говорит, что великий человек только при переезде узнает, как он богат. В самом деле, мы никак не ожидали с Иваном Александровичем, что у нас будет с собой столько поклажи. Не ожидал, очевидно, этого и кондуктор, когда два носильщика стали по очереди вваливать в вагон одну корзину за другой, один чемодан за другим.
– Это что, экскурсия? – строго спрашивает он, уставившись подозрительным взглядом на пальто Ивана Александровича, из-под мышек которого ослепительно сверкает недавно вычищенный медный самовар, наша краса и гордость.
– Да, археологическая, – обрадовавшись идее кондуктора, соглашаюсь я.
– А где остальные?
– Билеты берут.
В сущности, конечно, мы могли бы из всего взятого с собой, половину бросить в Белграде. Например, на что мне металлическая коробка от монпансье? Или смычок от скрипки, украденной большевиками?
Но на коробке до сих пор еще видны потускневшие слова «Блигкен и Робинсон»[31]. Когда-то, давно, там, покупал к монпансье, чтобы рассыпать их в цветные бонбоньерки… Невский был залит огнями… Предпраздничная толпа, мелькание фыркающих саней, у «Европейской гостиницы» синяя сетка… «Ваше сиятельство, пожалуйте…»
Разве можно бросить такую коробку? Или смычок, который вел вторую скрипку в квартетах Бетховена?
– А на голову мне не упадет? – тревожно озирается сидящая на скамье старая сербка.
– Не беспокойтесь, господжо… Это все мягкое. Тюфячок, подушки, ночные туфли…
– А куда вы едете? В Великий Бечкерек?
– В Париж, мадам. У Париз!
* * *
Вот теперь только, глядя в окно и видя уходящие, быть может,