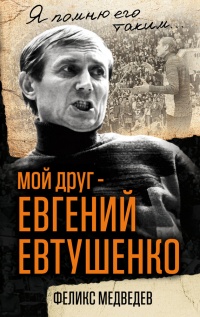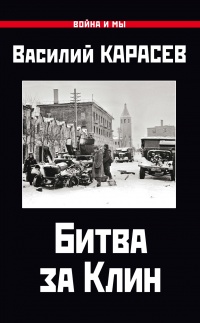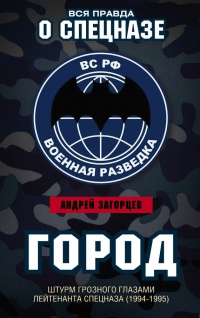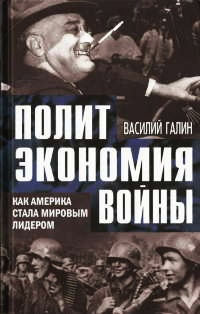И в самый приветливый я входилНа закате синего дня,Я женщин порой некрасивых любил,И они любили меня.И в каждом городе – вездеПомнят бег моего коня,И есть дом, есть окно и весенний день,Ожидающие меня.Когда же стянется сизый дымМоих костров к берегам,Ты, наверно, пойдешь, мой старший сын,По моим неостывшим следам.И я знаю, что там, на склоне реки,Где ты будешь поить коня,По походке твоей, по движенью рукиУзнают и вспомнят меня.
И что же? Так и произошло.
Мы проезжали с друзьями по Байкалу. Был дикий проливной дождь, мы замерзли страшно. И выпить хотелось, а на борту у нас уже ничего не было. И вот мы увидели, как будто хрустальный дворец вырос на берегу. И какие-то звуки музыки оттуда… Кафе придорожное. Мы вошли – нас не пускают: «Уже все закрывается! Че вы вперлись!» – мы же в сапогах грязных, с пудовой грязью с такой. На бога Саваофа похожие. И вдруг мой товарищ Лёня Шинкарев говорит им: «Вот у вас сейчас играет песня „Не спеши“, а это и есть автор песни». – «Да ну! А „Бухенвальдский набат“ случáем не ты написал?» Я сказал: «Это – нет!»
Все-таки нас пропустили. Как я писал потом в поэме «Мама и нейтронная бомба», «мы вошли как домушники в зал». В носках – потому что оставить пришлось за порогом наши резиновые сапоги с грязью пудовой.
Мы вошли, но там уже все закрывалось. Нам сказали: «Вон с буфетчицей говорите!» Я подошел к стойке – меня делегировали, – там стояла такая грудастая, очень милая женщина. Я, вот не поверите, вдруг папу вспомнил. Ну, что-то передается – жестикуляция невольно… Папа, когда был в чем-то виноват, – а он всегда был немножко в чем-то виноват, хотя еще любил маму, – то он, когда оправдывался, как-то потирал рукой лицо, мучил лицо. И я тоже так как-то подставил руку к лицу, помню, и говорю буфетчице: «Видите ли, мы тут простыли, замерзли, все продрогли насквозь…» И вдруг она смотрит-смотрит на меня: «Слушай, а твой папа не Александр Рудольфыч?» Это сколько лет прошло! Это был уже восьмидесятый год, если не ошибаюсь, когда я оказался на Байкале. А она сразу: «Папа твой не Александр Рудольфыч?» Я говорю: «Ну, Александр Рудольфович. При чем тут мой папа?» – «А ты-то кто будешь? А маму твою как звать? Не Зина?» – «Да, Зина». – «А ты, значит, Женя?! Ой, да чё ж мы тут?» Повела нас всех к себе домой. Потом рассказала, что была поварихой в экспедиции, где мама с папой работали. И папа мой был влюблен, с мамой у них какие-то были сложные отношения, а эта женщина им письма носила из палатки в палатку. И наверняка сама была влюблена в моего папу.
Волков: Ну конечно.
Евтушенко: Это же невероятно, это же бывают сказочные совершенно события! И вот я, когда читаю стихи сам, я слышу – как чревовещатель, что ли, слышит – какой-то внутренний голос. Я улавливаю, что это из меня папа читает стихи! Слава богу, у меня сохранились его магнитофонные записи.
Волков: Когда-нибудь надо выпустить их на диске. Или с вашим чтением.
Евтушенко: Вы правы, нужно обязательно. Он замечательно читал стихи. И не только свои стихи, конечно.
Волков: Ваш отец – поэт как бы гумилевско-тихоновской традиции.
Евтушенко: Совершенно верно, да. Тихонов, Гумилев и Киплинг. Это всё соединяется у него в одно. Вот так же он привез мне во время войны стихи Симонова, переписанные им.
Волков: А Симонов ранний к этой же группе относится.
Евтушенко: Безусловно – да.
Довоенная Москва
Волков: А какой вам запомнилась довоенная Москва?
Евтушенко: Видите ли, я написал лет в двенадцать:
Человек один – росинка,а народ, он – как Байкал.Не разбей меня, Россия,у своих сибирских скал!
Это я уже в Москве был в тот момент, но впечатление от станции Зима у меня было огромное. Учтите, что меня перевезли в Москву совсем маленького и для меня Сибирь, хотя и была моей родиной, оказалась какой-то экзотикой, когда я очутился там опять. Это совсем другая жизнь была, совсем другие люди.