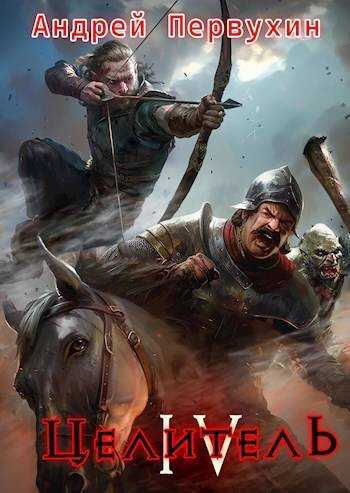в полной потере окраски рук и лица, обвисшей моментально одежды, с которой сами сползли и упали сумка и бич, и беспомощной интонации проекционного звука:
— Та-ак… — после чего фуражка с кокардой развернулась назад козырьком, но тут же, правда, повернулась снова вперед козырьком.
Джума, сжавшись внешне и внутренне, стала похожа на малохольную телку, только что вышедшую из стойла на первом столбе.
— С чего это такой аппетит и где остальные? — спросил невидимый Пастуховский эфир, и Джума, почему-то испытывая чувство вины за оборванные кроны деревьев, обглоданный беспощадно кустарник и недостающих согуртниц, ответила:
— Все, Пастух, наелись синей травы… Еще и нанюхались… И пропали… Остались вот только…
Тут Пастуховский эфир начал пульсировать, отражая всю гамму чувств Пастуха: окрасился в ядовито-зеленое, затем в фиолетовое, в красное, и остановился на желто-ехидном, обозна́чившим руки и половину лица; одежда расправилась.
— Где вы взяли эту траву?
— За туалетом, Пастух…
— Бараны!..
— Бараны… — согласилась Джума.
— Но кто попробовал первым, кто догадался, кто дал пример? Ты, я смотрю, вся в синих разводах…
— Пастух, — сказала Джума, — со мной дело в том, что место это в точности похоже на то, которое было возле нашего дома в проекционном нигде, то есть на задворках у нас тоже был туалет и позади него росла конопля — отображение в иллюзии, как я понимаю, этой ужасной синей травы, — и братья мои, тени бычков, обливали меня водой и заставляли, одетую так, чтобы лишь прикрыть неприличное, пройтись туда и сюда по зарослям конопли, а потом соскабливали с меня эту пыльцу для собственных нужд — ухода в лжесущностные пространства… И вот, Пастух, понимая, чем нюханье этой пыльцы угрожает моим подругам, я побежала и быстренько извалялась в воде, прошлась по зарослям синей травы, топча ее и собирая пыльцу на себя, и ломанулась в кустарник счищать синюю пыль, уничтожая таким образом, источник искаженной реальности… Я, Пастух, проделала это дважды, и уничтожила много, но потом эти «бараны» остановили меня и стали облизывать, не давая проходу, а когда я предупредила их о последствиях, они уже мало что понимали: смеялись, плакали и даже икали… К тому же, как оказалось, это неиссякаемая трава: растет и растет, — и уничтожить ее невозможно… Я здесь одна не попробовавшая, Пастух… Так что непозволительное вошло частично, конечно, с меня, поэтому я и в разводах…
— На самом-то деле, Джума, трава в проекционной иллюзии, о которой ты говоришь, не является отображением синей травы, и по сути своей это две разные вещи, хотя обладают похожим воздействием… Дело в том, что синие заросли просто так на плоскости не растут и являются проявлением соблазна, который возникает лишь по желанию скотины, впавшей в скотскую блажь, то есть по разным причинам остановившей движение свое по великим кругам, забывшей обязанности и от нечего делать ищущей, чем бы заняться… Но ты лично, Джума, не виновата ни в чем, ты вела себя крайне достойно и заслуживаешь за свое поведение награды: это даже маленький подвиг — попытаться уничтожить соблазн, и поэтому украшаю тебя не какой-то прищепкой на ухо, а цепочкой на шею, — правда, бронзовой, но на первом кругу больше бронзового вешать на телок нельзя, — и Пастух украсил Джуму настоящей тонкой цепочкой, а потом еще вытянул «барбариску» из сумки и, не раскалывая, целиком отдал Джуме.
Телка не преминула выразить свою радость и благодарность струей, проглотив сразу при этом конфету, после чего Пастух, не меняя своей желтизны, строго сказал:
— Ну, теперь поднимай, буди этих дохлых овец… Сейчас выясним, откуда взялся соблазн — на кого нашла блажь…
— Мы, Пастух, — с трудом подняла голову Марта, проснувшаяся сама, — не овцы, а телки — будущие коровы…
— Кажется, Марта, я доверил стадо тебе, и в итоге, кроме полудохлых овец, я не вижу здесь никого…
— Я, Пастух, не смогла уследить… тут такое… — ответила Марта, стараясь подняться.
— Мы живые, Пастух… — подала голос Антонина-гадалка и добавила: — А в иллюзию мы — ни ногой, и от синей травы лишь удвоили свое ощущение реальности…
— И в лжесущностные пространства, Пастух, мы — ни копытом… — поддержала ее Овсянка.
— Мы парили, Пастух, как небесные птицы, — сказала Ириска.
— И ползали, как букашки… — созналась Овсянка.
Телки поднялись, как могли, на дрожащие ноги, а Пастух взялся за бич, раскрутил его над головами коров и хотел было щелкнуть, но у бедной Ириски подкосились от ужаса ноги, она повалилась, не в силах стоять, и Пастух, бросив бич, произнес с убивающим равнодушием:
— Это обморок после синей травы, помашите над ней хвостами — приведите эту недотепу в порядок!..
— Уследить, Пастух, — подтвердила Джума, — было трудно… Тут такое творилось!
— Где Елена? Где Танька-красава, где остальные?
— У Елены, Пастух, — ответила Сонька, — непорядок с копытом задней левой ноги, и она ушла к роднику — подержать свою ногу в целебной воде, но к тому же, наверное, разговорилась с созерцающими быками, потому что сказала мне, что после синей травы в голове у нее появились кое-какие реальные мысли об истинном положении вещей, и попутно с лечением копыта она хочет узнать, как быки, вытаптывающие тропинки, отнесутся к этим ее догадкам… Возле тропинок, Пастух, как вы говорили, сориентироваться нельзя, и Елена, наверное, потерялась в пространстве…
— Представляю себе, что за мысли пришли в телячью голову после синей травы… — ухмыльнулся Пастух. — Впрочем, это все поправимо, Елену найдем. Анна, а где твой венок?
— Мне, Пастух, стыдно, — ответила Анна, — но голод после синей травы так прихватил, что я съела венок, правда, поделилась с Кувшинкой…
— Это просто кощунство, Анна, поедать собственный символ, и будь ты коровой, пусть и избранной сущностью, я бы отправил тебя в Главный отстойник — слегка поправить мозги… А где, интересно, все же Танька-красава?
— Пастух, с нашей подругой беда!.. — стала рассказывать уже Мария-Елизавета. — В проекционное никуда или в лжесущностное пространство она не ушла, но мы вместе от голода наелись каких-то ягод с кустов, растущих за синей травой, и наше «Му», видимо, от них возбудилось, Танька-красава стала приставать к двум голубым жеребцам, так почему-то испугав их своими ухаживаниями, что они быстро удрали и больше не возвратились, потом она вывалялась в грязи возле лужи на водопое, и, наведя макияж, сказала, вернее, Пастух, закричала: «Мочи нет! Нет мочи больше терпеть, схлестнусь хоть с верблюдом!» И унеслась… Ускакала, как лошадь какая-нибудь, сбежала назад по столбам… в пустыню… к верблюду…
— Это был красный гулявник… — сразу понял Пастух. — Вот дура! Мало того что она натолкнулась на будущее и уже от этого у нее помрачились