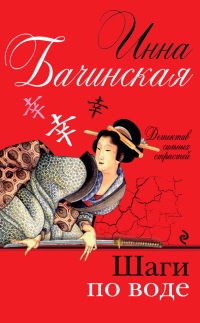— …No trouble, no trouble in thy breast. Remember me, remember me, but ah! forget my fate…[347]
Он оборвал мелодию резко, гневным взглядом окинул Себастьяна и Бриджит, а потом, метнувшись к выходу, сорвал с вешалки куртку и вылетел пулей из квартиры, хлопнув дверью.
— Что это с ним? — Бриджит обиженно смотрела ему вслед. — Что опять не так? Вот куда он ушел на ночь глядя?
— Не беспокойся, Meine Liebe, — Бас коснулся губами ее лба. — Все хорошо. Побегает и вернется. Налить тебе еще вина?..
Он не понял, как его занесло на Трокадеро — долго брел, не разбирая дороги, наталкиваясь на людей — шумных и веселых. Извинялись — «Pardonnez-moi, monsieur»[348], и желали «Joyeux Noёl!»[349], он не отвечал, только каждый раз надвигал капюшон все глубже и глубже, дабы не привлекать сочувствующих взглядов к своему изуродованному лицу и не встречаться глазами с людьми, чтобы они не прочитали в его мутном взоре невыносимое желание кого-нибудь убить. Неважно, кого… Просто убить, дабы дать выход щемящей боли, рвущей ему сердце. Черт бы побрал Бриджит вместе с садистом-молокососом, они растравили старую рану, лишь недавно начавшую рубцеваться. И дело было не столько в проклятом Пёрселле, вновь напомнившем ему о Катрин, а точнее — об ужасе, который он с ней сотворил. Рана от потери друзей, смерти матери, с которой он был лишен возможности попрощаться и сказать, как сильно он ее любит, вечной разлуки с сыном, которого он был готов любить и любил, несмотря на то, что видел его всего раз в жизни — вот та рана, имя которой было — одиночество. Он поймал себя на мысли, что уже несколько месяцев его существование не казалось ему таким безрадостным и беспросветным, как в последние годы. Впервые он остро ощутил его, очнувшись в тюремной больнице в Крестах. С того черного дня одиночество становилось все непрогляднее с каждым днем, с каждым безнадежным днем его жизни, став практически абсолютным к тому моменту, когда его вынудили поклясться Жики в верности. Иногда ему хотелось залезть в петлю и разом покончить с этим адом. Лишь воспоминания о Катрин, вернее, о последней встрече с ней, а еще слова Саши, которые тот обронил в подвале коттеджа в Серебряном бору, останавливали его. Он сладко лелеял их в памяти, в минуты просветления осознавая безнадежность своих мечтаний. А потом в его жизни появилась рыжая ирландка и белобрысый немец — и что-то изменилось. Какого черта они приволокли ему это пианино!..
В винной лавке он купил мартель, и по дороге неутолимо глотал его, завернув бутылку в бумажный пакет. Когда он добрел до Дворца Шайо, он был уже изрядно пьян.
Мужчина, следовавший навстречу, сильно его толкнул — но вместо традиционных извинений Джош услышал злобное «Un poivre americain»[350]. Ce n'est pas trop tôt![351] Наконец-то появился тот, кого снедала такая же пылающая неистовым пламенем агрессия, а еще — нестерпимая потребность выпустить ее на свободу. Они вцепились друг в друга. Француз с усердным ожесточением мутузил Джоша, а тот его, нанося слепые удары куда попало, не чувствуя ни боли, ни усталости. Дрались молча, не произнося ни слова. Неизвестно, сколько продолжалась бы эта тупая потасовка, но кто-то из близлежащего кафе заметил мельтешение на улице и из brasserie выбежали люди. Их быстро разняли. В любой другой день, несомненно, метрдотель вызвал бы полицию, но сегодня все были настроены крайне благодушно, их увели в кафе, похлопывая по плечам и спинам, приговаривая «Quel as! La-la, tu divagues!»[352] В кафе им вручили по узелку со льдом, чтобы приложить к разбитым носам и усадили за стол: «Gagne assez qui sort du procès»[353] и через несколько минут они уже пили вместе коньяк, Джош узнал, что его противника зовут Анри, от него только что ушла жена — сука, прямо под Рождество! «Et toi? Ta femme t’a plaqué aussi?»[354] Джош начал рассказывать ему о Катрин, но не мог сосредоточиться, постоянно сбивался на детали — грудь… глаза… ноги… Начал безбожно врать — «меня любит без памяти, за мной на край света…» Они пили бокал за бокалом, пока он не почувствовал, что пьян совершенно, пьян в хлам, в дугарину, в зюзю… Расцеловавшись с Анри на прощание, он вывалился на улицу, шатаясь, подобно матросу на штормовой палубе, долго пытался поймать такси, пока метрдотель из brasserie не сжалился и не вызвал ему такси по телефону…
— Wow! Toll! Wahnsinn![355] — Бас еле успел поймать Джоша — тот потерял равновесие и начал падать прямо ему в объятия. Одновременно раздался душераздирающий звук — словно коту наступили на хвост.
— Meine Liebe! — крикнул Бас, смеясь. — Иди сюда, я один не справлюсь.
— Ничего себе! — ахнула ирландка, появившись с бокалом, на донышке которого плескался скотч. — Где это ты так надрался? А что у тебя с лицом?! Где твои очки?
— Какая разница, где надрался? Лицо, видимо, кому-то не понравилось, а очки приглянулись, — предположил Бас. — Давай-ка уложим его спать…
— Не-ет, — зарычал Джош. — Не хочу спать. Еще выпьем! О'Нил! Я принес тебе подарок!