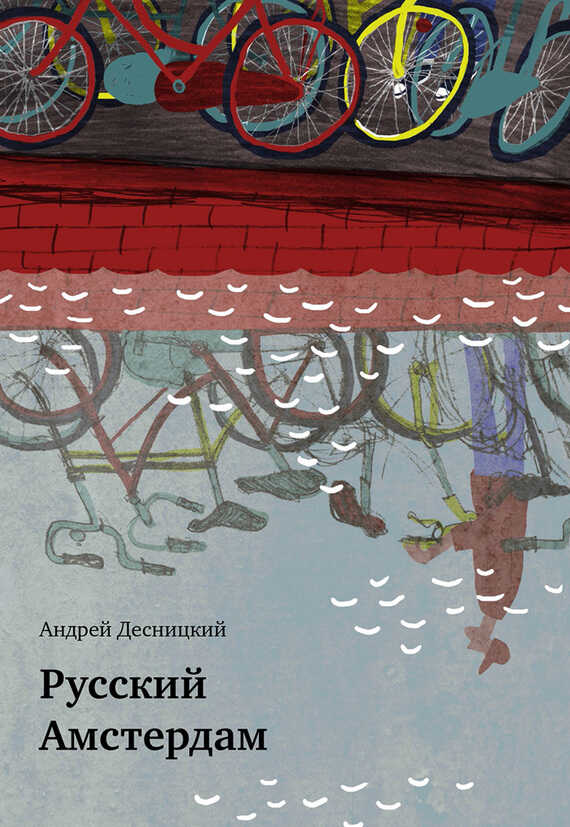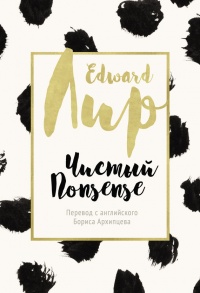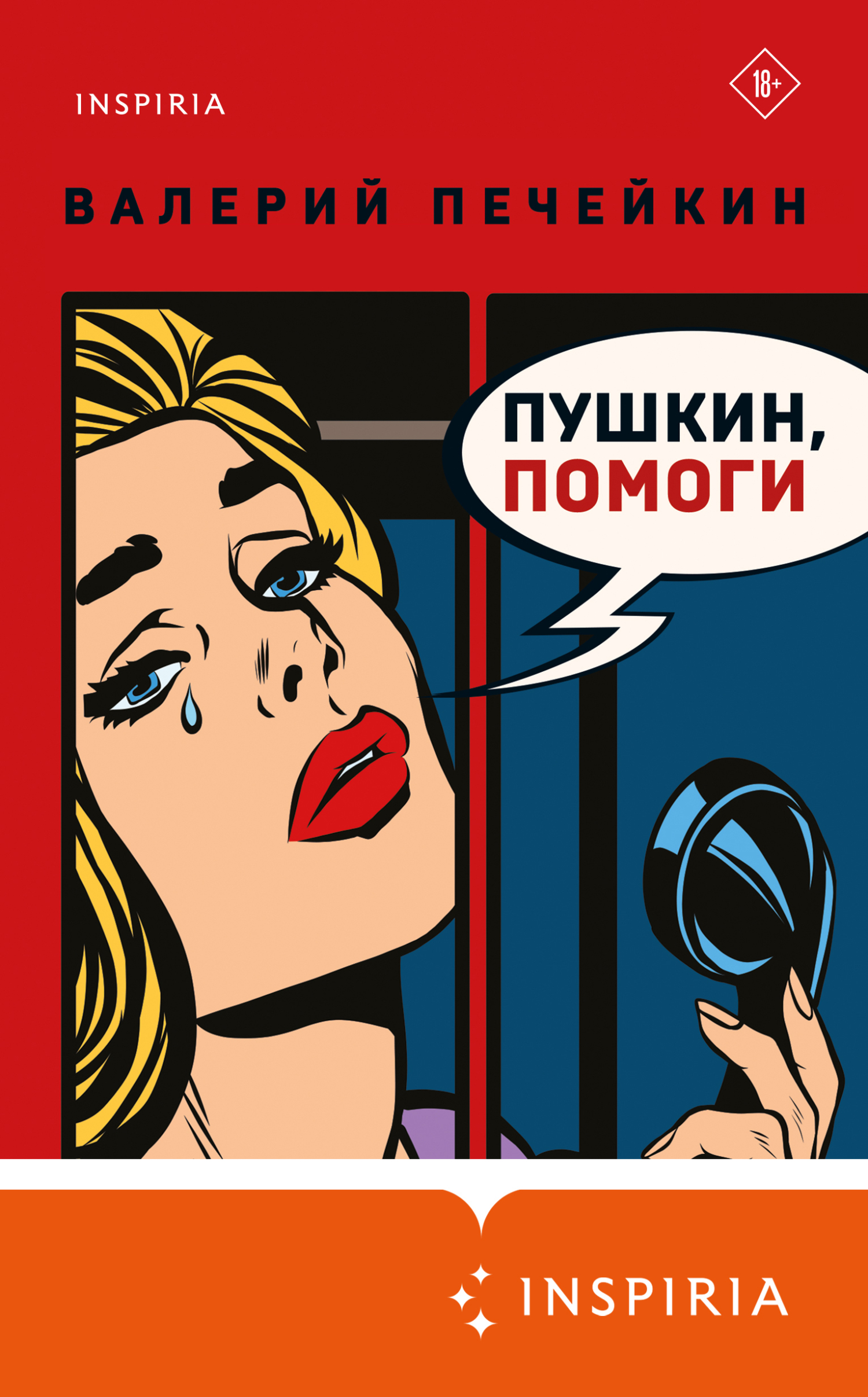Аввакума. Сказывалась дочерью духовной вот уж как одиннадцать лет, а другого чего у неё не выведал – вся в себе, как в келье, скрыта. Но до чего младёшенька! Годков девятнадцати, не боле. «Это Ксенушка, – подумал Аввакум, – во скольких городах видели её люди добрые, а меня с ней всё-то Господь не сведёт. Как убралась из монастыря Ипатьевского с матушкой Меланьей, так и пропала не то што с глаз моих, а и со слуху, но токмо не из сердца памятливого. Впервой в Тобольске о ней поведали, да пошто-то всяк помнит её младёшенькой? Ей, миленькой, должно быть, за тридцать. И где ныне обретается душа её неприкаянная?..»
А Лазарь всё частил да частил, поведуя о том о сём. Вспомнил о Киприане-юродивом, жившем в царских палатах с другими увечными людьми божьими под ласковым приглядом государя Алексея свет Михайловича. Аввакум знавал Киприана: тот не ходил по Москве в одной рубашке, зато носил на себе железные вериги в три пуда да на груди крест каменный, тяжкий. Это он кричал на Никона-митрополита, везшего в Успение мощи святого Филиппа: «Едет Нихан, с того света спихан». Ныне-то, однако, совсем старик, ежели не угробили крикуна никонеяне.
Лазарь говорил и на руках показывал, чему сам был очевидцем со князем Иваном Хованским:
– У собора Покрова Богородицы, что на рву, увидели его, подошли подать милостыньку, а он, сердешной – ноги калачиком – на снегу сидит и конскими катышками мёрзлыми сам с собою в тавлетки играет, переставляет туды-сюды. Князь присел на корточки, просит:
– Со мной сыграй, я в шашки-то мастак.
– Не-е, – заупрямился Киприянушко. – Ты токмо в поддавки мастак, да мене по шее бить охочь.
И вскочил на ноги и смотрит мимо князя, да и запрыгал, брякая веригами, к месту Лобному, а там схватал под уздцы лошадей, везших крытый возок патриарший с архимандритами на запятках, и остановил, а сам подскочил к дверке и в стеклину катыхом стукает. Никон приоткрыл дверку и руку протянул, не зная, каво там суёт, могет, прошение, а блаженный в ладонь ему, порушителю веры древней, катых вклал и кричит:
– Райско яблочко тебе, Минька, оттель послано! – А сам другой руки пальцем в землю, яко в преисподнюю, тычет.
Оттолкнул его патриарх, хлопнул дверцей, и рванули кони прочь от Христа ради юродивого, а Иоахим-архимандрит успел сапогом лягнуть Куприянушку скорбного, тот свалился в снег, заплакал обиженно:
– Бре-егует, дурачок, заедкой сладенькой, а ско-оро, грешничку, горькое пить!
Вздохнул Аввакум:
– Ох ты горюшко… А в каку пору то было?
– В первую зиму, брат, как тебя в Сибирь укатали. – Лазарь помолчал, глядя в окошице. – А всё так-то и сталося по-евоному. Не знамо, жив ли.
В Вологде возки переставили на колёса и покатили резвее. А размотался вскоре клубочек дорожный до конца, до той петельки последней, с которой и начался путь изгойный, десятилетний.
Майским вечером тёплым предстала глазам Аввакума долгожданная Москва вся в издымье цветущих садов: они кучевыми облаками белыми парили над ней, дурманили вишнёво-яблоневым запахом, а из кипящих кущ их насвистывали, журчали истомившиеся по любви соловьиные зовы.
Въехали в широкий двор Федосьи Прокопьевны Морозовой, полный челяди, калек и нищих. По-прежнему заботилась о них богатая вдова. Дворецкий встретил возки степенно, вроде бы давно поджидал семейство протопопа. Возки поставили под навес, коней отпрягли и отвели в конюшню. Спросил Аввакум о боярыне, дворецкий учтиво ответил:
– Молится матушка, тревожить не смею, надобно подождать.
Проводил всех в просторную прихожую и ушел. Лазарь с Фёдором не сидели на месте, чувствовали себя как дома и вскоре нашли знакомых и ушли с ними. Слуги принесли хлеб и квас – перекусить с дороги.
Но скоро вышла к ним Федосья. Аввакум не узнал бы её где в другом месте, в толпе: вся в черном, как и прежде, но исхудавшая, как былиночка, а на усохшем, в кулачок, лице бледном одни глаза запавшие и узкая прищупь губ. Сказывал Лазарь, мол, живёт вдова строго, а хоромы её – монастырь сущий, носит под платьем на голом теле связанную из конского волоса колючую власяницу, а чем питает себя – одному Богу вестно. И во всякое время трудничает, пряжу на веретёнца накручивает, плетет и вяжет и иглой ковыряет, кропая рубахи и порты, то ей и мило. По тюрьмам да по местам скудельным пеши ходит, милостыню раздаёт, нашитым за ночь одаривает. И сестру свою родную, Евдокию, жену князя Петра Урусова, под свой начал привела, та и дома-то у себя редко бывает, детишек не видит, всё-то в келье с Федосьей без устали молятся. Уж князь Пётр на Федосью государю жаловался, да и царица Марья Ильинична недовольна своей верховой боярыней – редко во дворце бывает. Но сколько же можно так убиваться по мужу Глебу Ивановичу Морозову? Себя молитвами да постами суровыми извела, да хоть сына Ивана Глебовича, единственного наследника огромного богатства, пожалела б! Хвор млад-человек, пощадить надобно: в чём только душа держится.
Поклонилась всем общим поклоном, подошла к Аввакуму и, глядя на него провальным, мерцающим во глубине глазниц жарким взглядом, сказала, вроде бы и не было столь долгого расставания.
– Благослови, отче. Дворецкий покажет, где жить станете, а я теперь же пойду ко страждущим.
Всего-то и сказала, вскинула на плечо мешок с нашитыми рубахами и пошла со двора с двумя монашками, но остановилась, договорила:
– Ты чаял в благодать Божию возвращаешься, а въехал в царство антихристово.
Разместилась семья Аввакума в отдельной от хором деревянной палате, вскрыли короба, а переодеться во что ладное не было. Стеснительно расселись по лавкам.
– Обживёмся, то нам и привычно, – ободрил их протопоп. – А я схожу, надобно навестить кой-кого.
Пошел к Ртищеву, который уже не был постельничим царя, а ведал приказом Большого Дворца. Увидел его Фёдор, выскочил из хором каменных на крыльцо с криком:
– Батенька ты мой, Аввакум, друг сердешный! – сбежал по ступеням. – Ждал, брат, ох как ждал! Ну обнимемся, живой!
Благословил его Аввакум, обнялись. Фёдор подхватил под руку, потащил в хоромы. В большой гостиной, с зеркалами и немецкими гравюрами на обитых красной кожей стенах, усадил его Фёдор Михайлович за дубовый с резными ножками стол и закидал вопросами.
Аввакум бывал в этой гостиной и раньше на шумных диспутах богословских и потому с любопытством отличал в ней всё новое. Смутила его картина в тяжелой, на вид золотой раме с живо изображенной на ней красавицей у пруда в окружении толстых и бесштанных мальчонок с крылышками. Красавица, похожая на Анну Ртищеву, была полураздета