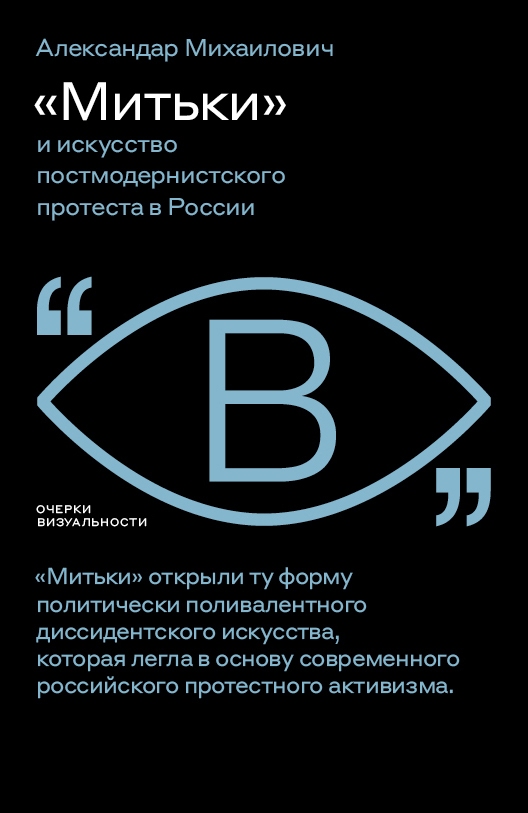Мелихов десятью годами раньше писал в «Исповеди еврея»: «воспоминания о босоногом детстве – один из самых несносных жанров советского казенного народничества» [Мелихов 1994:15]. Однако идиллическое детство из «Красного Сиона» непродолжительно. Польшу захватывают немцы, Бенцион с родными бежит на восток, в Страну Советов. Одну сестру застрелили немцы, другая умерла из-за невыносимых условий в поезде; принудительный советский труд доводит отца до самоубийства, брат арестован за кражу; однако Бенцион выживает, потому что матери приходит мысль вскоре после приезда в Среднюю Азию сдать его в детдом.
Еще мальчиком Бенцион заводит дружбу с горбатым сапожником-евреем Берлом, убежденным сталинистом, у которого есть одна мечта: уехать в Биробиджан. Берл даже не может толком выговорить это слово, однако приводит длинные цитаты из речей Калинина и заявляет: «лет через десять Бори… Бери… Биробиджан будет важнейшим, если не единственным хранителем еврейской социалистической национальной культуры» [Мейлахс 2005: 11]. Особенности языка Берла, как здесь, так и в других эпизодах (он называет себя «работником тыла», а верблюдов описывает как «важное транспортное средство»), типичны для якобсоновского нарушения отношения подобия. Говоря словами Якобсона, хотя и в ином смысле, слова у Берла функционируют в составе «готовых связанных блоков», при этом связаны они с идеологией идеализированного государства рабочих, светлого социалистического завтра и – в случае с Биробиджаном – светлого национального завтра для советских евреев.
В тексте повести Мейлахса притягательность Биробиджана состоит не в том, что он служит маяком будущего, скорее это осколок прошлого, реальность которого реализуется лишь в одном смысле – как музея того, что было уничтожено. «Евреи в Биробиджане, похоже, играли такую же роль, как индейцы в Америке. Экзотика вымерших» [Мейлахс 2005: 146].
Разрушение Биробиджана как живой общины, равно как и разрушения, вызванные Второй мировой войной, делают возможным ностальгическое возвращение туда героя. После войны Бенцион попал в Израиль, где, по словам нарратора, «составил себе если и не самую героическую, то вполне пристойную биографию»: он служил, в качестве молодого офицера, во время израильской войны за независимость; получил докторскую степень, женился, стал уважаемым писателем, а позднее – представителем культурной организации в постсоветской России. Однако на пути к успеху он утрачивает ощущение смысла: рядом с ним нет никого, с кем бы он мог разделить свой «миф». Поворотный момент наступает в Москве, после инфаркта. Берл завещал ему серебряный портсигар, и Бенцион решает отвезти этот подарок в Биробиджан. После этого решения его блеклая жизнь превращается в исполненную смысла «драму», а все вокруг него, осознанно или неосознанно, становятся представителями «массовки».
В Биробиджане Бенцион добивается поставленной цели. Он обнаруживает крошечный музей (вымышленного) советского писателя на идише Мейлеха Терлецкого, имя которого, естественно, заставляет вспомнить настоящую фамилию самого автора – Мейлахс; фамилия Терлецкий – дань памяти настоящего отца А. Мелихова, который был родом из местечка Терлица. Описанный в повести знаменитый автор, писавший на идише, – это переосмысленный образ реально существовавшего знаменитого писателя на идише Бориса Израилевича (Бузи) Миллера (1913–1988), который жил в Биробиджане и работал главным редактором газеты «Биробиджанер штерн» («Биробиджанская звезда»). В 1949 году, в ходе послевоенных антисемитских кампаний, он был обвинен в национализме и провел семь лет в ГУЛАГе. В повести так называемый музей еврейского писателя находится в его квартире, которую любовно сохраняет его вдова. Ее бедность и речь с сильным акцентом («Здххаствуйте, что вам интеххьесует?») трогают героя до глубины души, поскольку возвращают в Польшу его детских лет. Вдова писателя дает герою почитать рассказы покойного мужа, и последние 25 страниц повести Мейлаха представляют собой длинные отрывки из биробиджанских рассказов Бузи Миллера в переводе с идиша на русский (переводы на русский публиковались, например, в 1974 году). Там есть рассказ о последней непокорившейся в местечке: она прячет золото от коммунистов и принимает позорную смерть (рассказ «Золото»); о героическом сыне, который отправляется в Биробиджан, чтобы стать там строителем, а потом воюет на фронте во время Второй мировой войны («Сыновья»). Произведения Миллера – это типичный советско-еврейский нарратив в его героическом варианте.
Сценой чтения автор достигает сразу нескольких вещей. Он дает описание сегодняшнего Биробиджана, в том числе и ресторана, где посетителей ждет советский китч – пример еще одной формы ностальгии. В этой сцене поступательное движение времени приостанавливается, и прошлое сливается с настоящим. Длинные выдержки из рассказов Миллера превращают Биробиджан в «готовый связанный языковой блок», то есть речь идет о языке, характерном для нарушения отношения подобия. Нам недостаточно просто прочитать синопсис произведений Миллера; для достижения задуманного эффекта мы вынуждены читать его слова в том порядке, в котором он их написал. Слова не являются взаимозаменяемыми, они могут существовать только в форме связанного языкового блока. Мейлахс так и описывает стиль Миллера: как «состоящий из готовых блоков» [Мейлахс 2005:222].
В «Исповеди еврея» читателя приобщают к тому, что быть евреем постыдно, здесь же его приобщают к чувству ностальгии. В первый момент безликая и бесцветная проза знаменитого писателя на идише кажется Бенциону ужасной, но чем дальше, тем больше он ею проникается: «чем схематичнее, бесцветнее и слащавее становилась сказка, тем уютнее располагался в ней Бенци. Он нежился в ординарности, словно в теплой ванне» [Мейлахс 2005: 223]. Бенцион в итоге решает написать в подражание Миллеру вещь простую и благородную, в том же стиле, и назвать ее «Красный Сион». Герой
перевоплотится в Мейлеха Терлецкого, каким тот мог бы стать, обладая должным образованием, то есть включенностью во всемирные бессмертные грезы. И уж тогда он сотворит пронзительно печальную и высокую сказку о несбывшейся еврейской родине, подобно матрешке, вложенной в другое, могучее и всеобщее отечество [Мейлахс 2005:225].
Если герой написанной в 1994 году «Исповеди» Мелихова «шарил руками в подводной мгле» и выныривал оттуда с разрозненным бриколажем подручной еврейской памяти, то герой «Красного Сиона», написанного в 2004-м Мейлахсом, уютно устраивается в теплой ванне биробиджанской прозы. Воображаемое удовольствие от ностальгического возвращения резонирует с детством, с материнством («матрешка») и со сказкой о светлом социалистическом будущем евреев в их собственном советском национальном очаге. В 1970-е годы Гордон прибегал в своих написанных на идише очерках о путешествии по бывшей черте оседлости к сентиментальности, чтобы заверить читателей в осуществимости советского еврейского будущего. Разница между советским еврейским китчем 1970-х и советским еврейским китчем 2004-го в том, что постсоветский автор знает: сказка мертва. «Красный Сион» – это миф из прошлого.
При этом цитировать советских писателей на идише на страницах постсоветского романа не значит просто перерабатывать старый мертвый материал. Включение в текст связанных языковых блоков не обязательно означает, что никакое