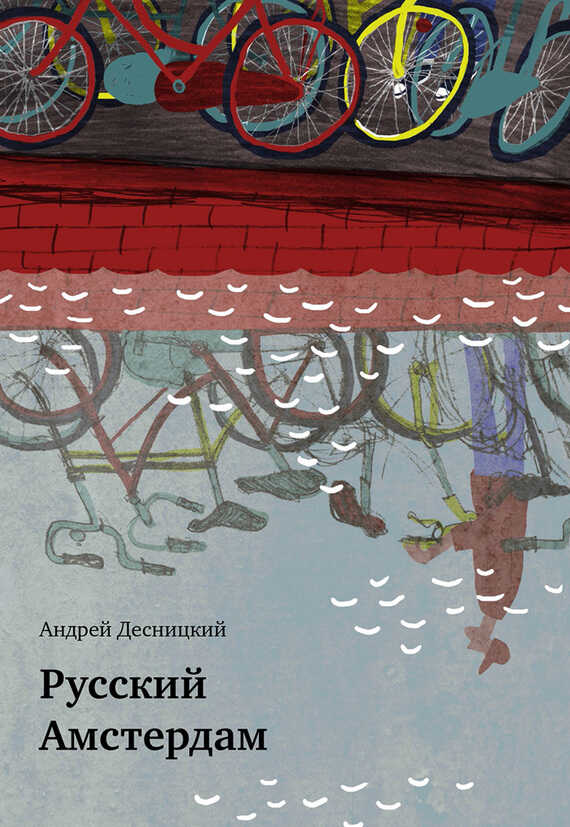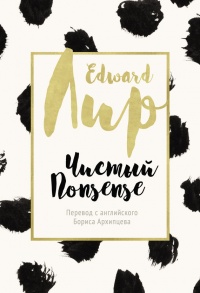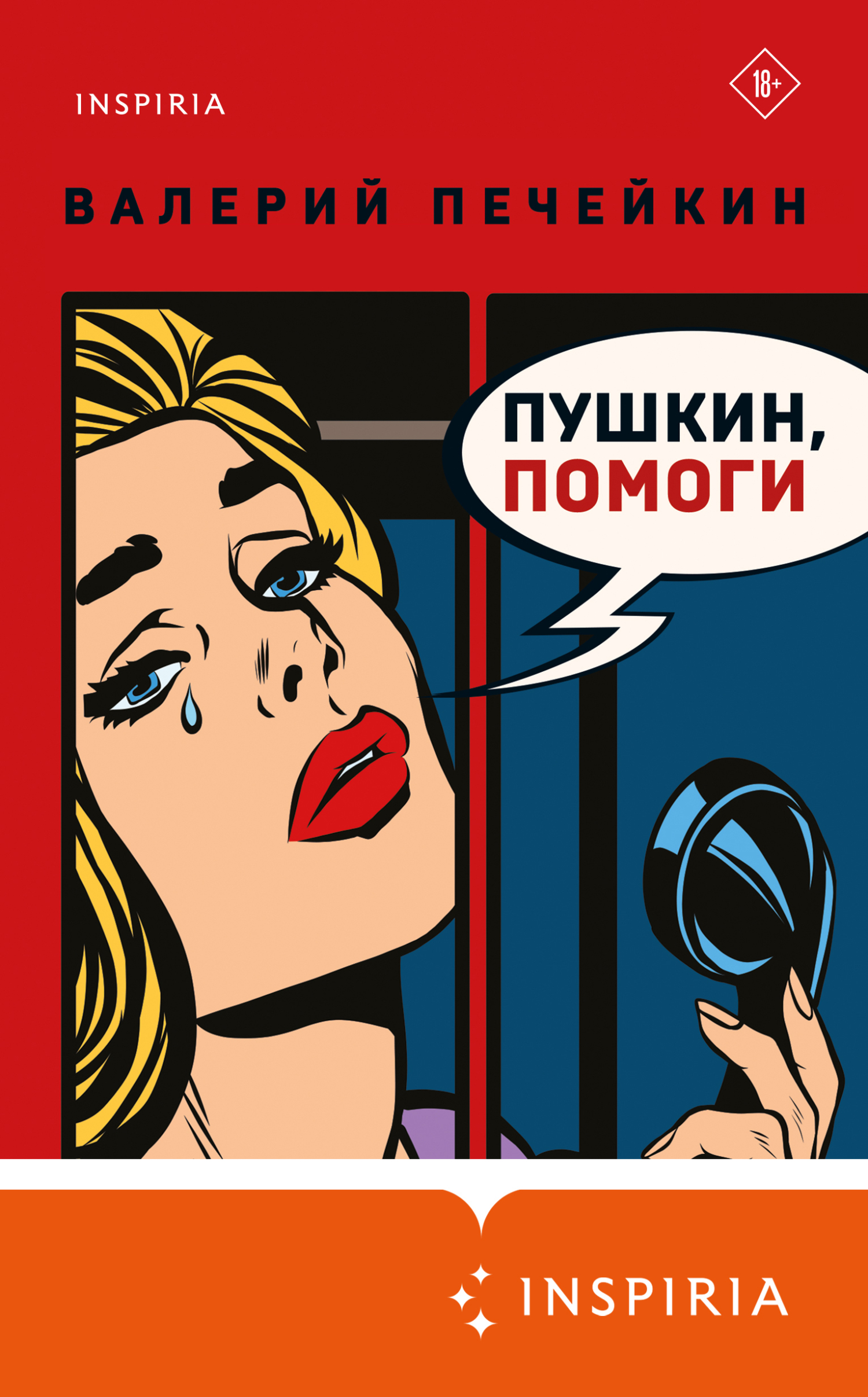– Бога истинного не моля жити.
С этого дня стал Аввакум проповедывать, как раньше в Москве было: с папертей церковных, на площади и улицах, и всюду его окружал народ, толпами ходил следом. Плакались попы воеводе-князю, мол, утишь ссыльного, он прихожан от церкви рёвом своим отшатнул, а народец его токмо и слушает. Сам архиепископ навестил, жаловался, но как-то опасливо, заискивая. По всему видно было – дошли слухом до архипастыря слова енисейского воеводы, дальнего родственника царствующего дома, сказанные Евсевию-протопопу о вероятном патриаршестве Аввакума. Так-то вот легко и беспричинно выдал Аввакуму охранную грамоту весёлый Иван Ржевский. Да и Хилков-князь не обещал угомонить протопопа:
– Твоё преосвященство знает о грамоте собственной руки царской? – склоняясь к Симеону вопросил воевода. – А в ней начертано: «Без замешканья ждём к нам нашего Аввакума протопопа». Чуешь, отче? Нашего! Ждут! К чему бы это, ведаешь! И никому не вестно, одному Богу, а я, убоясь вышнего, не совру лишнего.
– Тут уж так, – закивал архиепископ, – лучше ногой запнуться, чем языком. Слышно, он в марте поедет дале. Пождём…
В ночь пасмурную, когда насвистывал чичер – осенний ветер с нудным дождичком, и в трубе печной непутёво завывало – протопоп сидел в избе со своей семьёй и дьячком Антонием, толковал им Священное Писание. Часу в пятом стали на молитву. Протопоп говорил кануны, когда в низенькое оконце с улицы кто-то дерзко задолбил. Молящиеся в испуге замерли, а Аввакум взял свечник, подошел к оконцу и сквозь струи дождя разглядел прильнувшее к слюдяным вставкам бледное лицо в слипшейся бороде и неистовый отсвет в черных глазах пришлого.
– Што тебе, чадо? – спросил.
– Впусти, впусти! – требовал человек с улицы.
Протопоп подошел к двери, отодвинул щеколду, и в избу ввалился чернец в мантии и черном клобуке. Стоял, дышал сивушным угаром, покачивался, с него на пол стекала вода. Вперяясь безумными глазами в Аввакума, притопнул сапогом по лужице, возопил:
– Учителю! Людие тебя нарекают святым и пророком, дай же мне скоро-скоро Царствие Небесное!
«Беда моя, что сотворю?» – закручинился протопоп. А мних вопит, требует неотступно:
– Дай, пророк, дай!
– А чашу ту поднесу, можешь её испити?
– Могу-у! Давай в сий час, не закосня! – Чернец скинул клобук, тут же стащил с себя мокрую мантию и бросил на пол, остался в белой исподней рубахе: приготовился внити в царствие Божие.
– Тады молись, – приказал Аввакум и тихо шепнул Ивану, чтоб скрутил из каната добрый шелеп, а дьячку Антонию поставить средь избы скамью, сам сходил в чулан, вернулся с широким мясным топором, положил его на скамью, взял книгу и стал читать мниху отходную. Домашние закланялись бедолаге, прощаясь с ним. Притих чернец, совсем сбелел лицом. Вернулся Иван с канатным толстым шелепом.
Протопоп захлопнул деревянные крышки книги, монах от их глухого захлопа вздрогнул. Аввакум взял топор в руки, колыхнул им:
– Ну-тко, брате Антоний, подмогни ему главу на скамью возложить, – попросил протопоп, ногтем названивая по лезвию.
Слабо, но сопротивлялся чернец, однако Антоний, ухватив его за ворот рубахи, другой рукой согнул и придавил голову щекой к скамье. Чернец таращился, вращал бессмысленными глазами. Аввакум подмигнул Ивану, и тот понял, что ему надо проделать.
– Ну-у. – Перекидывая топорище с руки на руку, Аввакум поплевал на ладони. Чернец, отклячив зад, зажмурился. Протопоп набрал в грудь воздуху и, глядя на Ивана, занесшего над головой чернеца шелеп, выдохнул: – У-ух! – И в сей же миг Иван хрястнул его по шее. Дёрнулся, взлетел на ноги непутёвый искатель Царствия Небесного, вмиг протрезвев, закричал:
– Помилуй, государь, виноват! – И расслабленно вновь опустился на колени. Протопоп дал ему чётки в руки и повелел сотворить перед образом Божиим за епитимью полтораста земных поклонов. Сам стоял рядом, читал вслух Исусову молитву, чернец вторил, ударял лбом в половицу, взлетала и опадала мокрая грива, а дьячок Антоний при каждом поклоне ударял его по спине шелепом. Близко к концу монах стал задыхаться, закатывать глаза, лоб покраснел и опух.
– Передыши на воле, – разрешил Аввакум. Чернец, шатаясь, поднялся на ноги, вышел в сени и вдруг скоком перемахнул ступени, мелькнул по двору да через забор. Антоний выскочил следом, прокричал в улицу:
– Отче! Мантию и клобук возьми!
– Да пропади вы со всем! – донеслось издалече. – Не до манатьи!
Долго не показывался монах, а через месяц пришел к окошку, стоит, читает молитву и кланяется чинно. Аввакум заложил пальцем страницу, пригласил:
– Зайди в избу, Библию послушать.
– Не смею, государь, и глядеть на тебя, – смущенный, красный от стыда ответил чернец. – Прости, согрешил.
Простил Аввакум и мантию с клобуком в окошко подал. С тех пор издали стал кланяться. И архимандрит монастырский благодарил Аввакума, мол, стал братию почитать чернец, не пьёт, а то с ним сладу не было.
Воевал Аввакум с никонианским распутством не только на площадях вне храмов: в двух посадских церквах восстановил службы по старым служебникам, вернул двуперстие и всё отброшенное Никоном за ненадобностью. Сам служил обедни. Скоро большинство городских прихожан, покинув свои церкви, стали стекаться к нему на службы и проповеди, а посадские попы со своими клирошанами вернулись под благодатную скинь старой веры. Более двухсот детей духовных уже было у Аввакума. А попы-нововерцы трёх градских церквей сходились с немногой паствой в какой-нибудь одной и в мраке душевном от угарных речей Аввакума окормляли себя сами, жаловались воеводе и архиепископу, записывали на листки доносы пронырливых подслухов и сами присочиняли, о чём кричит народу сосланный и назад востребованный царём, не знающий страха и потому опасный протопоп.
В эти-то дни и посетил Аввакума направленный из Рима миссионером в Россию и тоже сосланный несколько лет назад из Москвы в Тобольск за неуёмное проповедование католицизма Юрий Крижанич. О нём рассказывал воевода, мол, очинно умён, а по рождению хорват, наукам учился в Риме, Болонье и Вене, книг написал полное беремя на измышлённом «общесловенском» языке – смеси русского с хорватским и польским – голову разломишь, читая, так-то уж хитроумно наковырено, неначе с похмелья мудрствовал.
Аввакум был в избе один, сидел за столом, писал столбец енисейскому воеводе Ржевскому. На топот в сенях даже пера от бумаги не отнял, подумал – Марковна пришла или дети, а когда повернулся на вежливый кашляток – удивился незнаемому человеку в поношенном кунтуше и шляпе немецкой, с выскобленными до синевы подбородком и щеками.
– Здравия тебе, отец Аввакум, – человек снял шляпу и по-иноземному, шоркнув ножкой, склонился и шляпой помахал у ног, обтянутых полосчатыми чулками, будто обмахнул желтые башмаки на высоких каблуках с пряжкой.
– Тако и тебе, – признав, кто перед