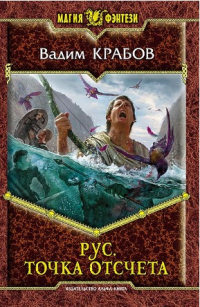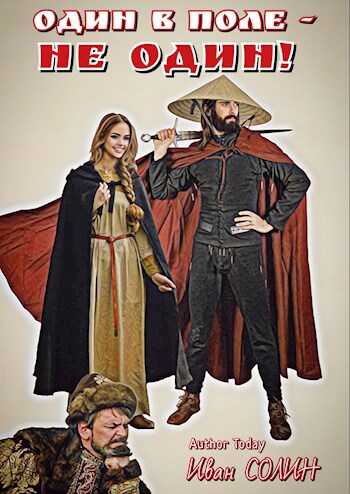Простые желания, легкие букеты. Пальцы порхали. Люди проходили мимо вереницей лиственных узоров.
Тап-тап-ток.
– Нам бы портрет.
Узор у подошедшей пары был переливчатый, мягкий.
– Садитесь, – улыбнулась Эльга, наклоном головы показывая на скамеечку, притулившуюся под яблоней.
Мужчина помог женщине сесть, сам встал за ней.
– Мы…
– Я увижу, – сказала Эльга, выбирая доску. – Мне не обязательно рассказывать.
Солнечный свет брызнул сквозь крону, набросил на пришедших живую ажурную тень.
Эльга всмотрелась в узор. Ага. Пальцы выловили листья из сака яблоневые, сливовые, березовые листья. Заработали – тап-ток, тап-ток. О чем думают? Не о себе, нет. Под первым слоем – второй, искренний, суть. А там – ребенок.
Значит, чарник, и донжахин, и немного клевера. Ой, нет, рябина.
Из листьев складывалось простое лицо, не сказать, чтоб красивое, упрямое, с поджатыми губами и серьезными серыми глазами.
Дочь.
Вроде не потеряли. Нет, уехала. А они о ней вспоминают каждый день. Чувствуют и свою вину в ее отъезде. Особенно отец. Но и сделать было, пожалуй, ничего нельзя. Это ж чуть ли не кранцвейлеру наперекор.
Мысли приходили и уходили, пальцы вкладывали их в листья, ноготь мизинца отрезал лишнее. Зарозовели тонкими лепестками букетные щеки, свалились на сливовый лоб непослушные пшеничные прядки. Тронула рябиновые губы короткая улы…
Эльга замерла.
Несколько мгновений она смотрела на получившееся лицо. Потом подняла взгляд на мужчину и женщину под яблоней.
Глаза ее вдруг наполнились слезами.
– Мама? Папа?
Сгинул, растворился в солнечных красках лиственный мир. Как же она не узнала? Как не заметила? Совсем помешалась на своих и чужих узорах.
– Мама!
Эльга кинулась к родителям. Ее вдруг затопило такое счастье, что, казалось, невозможно ни дышать, ни бежать. Слезы покатились градом. Губы свело. В груди стало тесно и бухало – бум-м! бум-м!
– Элечка!
Мама обняла ее. Пахло от нее так же, как раньше, как в памяти, хлебом и травой, молоком, домом. И Эльга словно вновь превратилась в длинноногую девчонку, которая, растопив печь, убрав двор и сени, покормив кур и пса, любила устало прижаться к маминому боку и впитывать родное, доброе тепло.
Ах, года вне Подонья будто и не было.
– А я уж думала, не узнаешь, – с легким укором сказала мама, оглаживая руками плечи и спину дочери.
– Что ты, мам!
– Повзрослела, – легко коснулся ладонью Эльгиной макушки отец.
– Я уже мастер, – сказала Эльга, шмыгнув носом.
– Ух ты!
– Мы на твои-то эрины земли прикупили, – поделилась мама, – корову завели молодую, к зиме должна отелиться, у Гунабун племянника взяли в работники, ты его знаешь, к дому вот думаем еще пристройку жилую сделать.
– Я рада.
Эльга посмотрела на отца с матерью и снова заплакала.
– Ну, – сказал отец, – чего реветь-то?
– Не знаю! – засмеялась сквозь слезы Эльга.
Не скажешь же, что она успела забыть родителей и в последнее время совсем о них не вспоминала.
– Все хорошо, – сказала мама, будто поняв, что творится у дочери на душе. – Я уж молила Матушку-Утробу, чтоб свиделись.
– Смотри ты, уже толпятся, – обернулся отец на подходящих людей.
Целый день потом Эльга ходила как пьяная.
А может, действительно глотнула где хмелки? Все вокруг плыло и искрилось, земля покачивалась, хотелось петь и любить весь Край.
Мастер Мару говорила, что она больше никогда не увидит родных. Что у мастера одни листья на уме. Эльга хихикнула. А она – вот! Увидела! Ох, как славно, как здорово, что мать с отцом, услышав о приезде мастера в соседнее местечко, без раздумий отправились туда.
Ах!
Эльга прямо на дороге подпрыгнула и затем отбила прогретую землю пятками. Идущие рядом женщина и мальчик шарахнулись от нее, как от зараженной.
– Это не плясунья! – рассмеялась девушка.
Вместе с Сарвиссианом они съездили в Подонье, Кутыня узнал ее, залаял, замотал бешено хвостом, глупые курицы и козы, конечно, остались безучастны, соседи выглядывали из окон. Примчалась сестра Тойма с двухмесячным сыном на руках. Обнимались, ревели наперебой. Мама напекла пирогов, отец выставил на стол бочонок крепкой сливовой настойки, на которую тут же слетелось чуть ли не все местечко.
– За Эльгу Галкаву!
– За нового мастера!
– Долгой жизни! Легкой руки!
Словно урожай праздновали.
Сарвиссиан в результате перебрал настойки и прохрапел до полудня. Мать Рыцека сказала, что не видела сына с весны, забежал, брякнул эрины на стол – и как не было. Даже переговорить не успели. Все хорошо, ма, да все хорошо. А где его хорошо, почему не с семьей рядом? Как-то все кувырком.
Она смотрела на Эльгу, словно та должна была что-то ей объяснить.
– Ты довольна? – поздно вечером подошел к дочери отец.
Небо было высокое, васильковое, в красных кленовых завитках. Звезды притворялись ягодами облепихи.
– Да, пап. Это мое, – сказала Эльга.
– Значит, и я спокоен.
Отец подвесил фонарь у вынесенных во двор, уже опустевших столов и улыбнулся, словно извиняясь.
– Это же мама все волнуется, – сказала Эльга.
– Ну, мама…
Он поцеловал ее в лоб. От него пахло наливкой. Легкая небритость уколола кожу. Потом так и хотелось потереть.
Утром Эльга взялась за букеты. Два сделала Тойме, для сына и для мужа, тете Вейре набила памятку, бабке Тутоле – узор от боли в спине, Кузинекам – от зависти, самих себя, деду Пихте – букет, полный покоя, тете Амине – портрет мужа, кому-то – светлые годы детства, кому-то – веселье, кому-то – новостные шепотки.
Родителям оставила букет, с которого смотрела на них девочка Эльга Галкава, птичьеглазая, немного испуганная, упрямая.
– На память, – сказала она. – Смотрите почаще, я почувствую. И он умеет улыбаться.
Перед самым отъездом пришел кузнец Вовтур. Посмотрел на сборы, помог с упряжью Сарвиссиану, погладил лошадок.
Потом отвел Эльгу в сторонку.
– Эля, а мастер, что тебя увозила, она ничего мне не просила передать?
Он стоял, высокий, плечистый, пахнущий железом и огнем, и совсем по-мальчишески, смущенно чертил линии в траве носком огромного сапога.
– Нет, дядя Вовтур, – сказала Эльга. – Она будет в Гуммине зимой, если хотите, можете ее навестить.