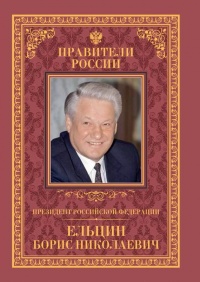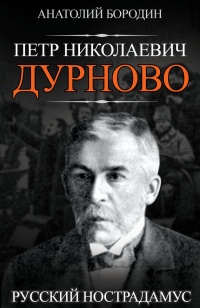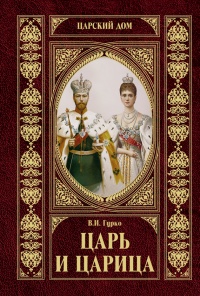с тележки двухпудового палтуса, толстого, бархатистого, жирного, что боярин.
Женки крепки, румяны, грудь взбита корсажем, волосы, зачесанные кверху, стянуты золоченой круглой застежкой. Зубы в улыбке блещут еще ярче. Молодой Куракин от сих прелестей в немалом смущении.
Александру двадцатый год, ростом перегнал отца, масти смуглой, материнской, однако черты лица против лопухинских тоньше, взгляд веселый. Науки в Лейдене постигал ревностно, говорит по-голландски, по-немецки, по-французски. К языкам охота большая. Состоит при отце в посольстве, в должности канцеляриста.
Морскую живность для посольского стола выбирает камердинер Огарков. Ливрея трещит по швам на богатырских его плечах. Женки смотрят восхищенно, как он взвешивает на ладонях, подбрасывает тушу палтуса.
— Шведы, слыхать, жалуются, — говорит Борис. — Им, вишь, мелочь достается, головастики.
У женок свой табель — начинают обход с русского посла, затем идут к английскому, а шведа навещают в последнюю очередь.
Пускай жрут головастиков. Так и надо. Сыну посол объясняет — простой народ в высокой политике несведущ, а русского Питера запомнил. Питера, трудившегося на верфи, необыкновенного монарха в холщовых рабочих штанах.
Карл тянул республику себе вослед, грозил, улещал. В Санктпитербурхе опасались — вдруг она окажется во враждебном лагере. Петр однажды, в трудную минуту, запросил Куракина, не захотят ли Генеральные Штаты «вступить в концерт», двинуть военные корабли против Швеции.
Посол не спрятал свое мнение, возразил царю, доказывая, что Голландия невоюющая нужнее. Нейтралитет ее надежен, так как она «через многие пробы видела, что от замешания в войнах она, здешняя республика, наконец при мирных трактатах больше себе ничего не получала, как ненависть и злобу, а прибыток остается в руках Англии».
В отношениях держав, — считает посол, — все зависит в конечном итоге от прибытка или убытка. Иной своенравный монарх пренебрегает государственной пользой, но рано или поздно поплатится за это.
И сына поучает посол:
— Нейтральством купечество живится. Спытай-ка Брандта, Гоутмана?
— Из-за чего же воюют, тять?
— Мало ли… Один от жадности, другой по нужде.
— А римские императоры…
Сын мотает головой, будто стряхивает нечто прилипшее к волосам. Это признак умственного напряжения. Не скучно ли считать барыш? Александра прельщает величие, могущество. В старых пророчествах сказано: третьей Римской империей станет Россия, а четвертой не бывать.
— Ишь ты… Карлу тоже пророчили… Почитай-ка вот про лягушку, книга презанятная — басни Лафонтена. Гордецам скудоумным не в бровь, а в глаз. Лягушка пыжилась, надувалась — и лопнула от непомерного тщеславия. Жестокость римских императоров люди проклинают, а ты… Художества древних, они и поныне почитаемы.
Спорят, разбирая почту. Александр нетерпеливо рвет тугие конверты, рушит печати.
— Тебе в хлеву обитать, — сетует посол беззлобно.
Державные орлы, львы, единороги, небрежно раскрошенные, хрустят под войлочными туфлями Бориса. Если письмо не цифирное, сын читает вслух.
Из дома пишут — хлеба сколь возможно продано, деньги же из оброка — тысяча двести рублей — князю отчислены. Составлено рукой писца в княгининой конторе, подписано Губастовым. Позднее Борис узнает — сбежал Федор. Лопухин решил о сем событии не извещать, почерк подделал. Свалить набольшего посла, царского любимца, Мышелова, не просто — ударить надо внезапно, без упрежденья.
Пакет чище прочих, с вензелями, обнимающими слово «Цензор», совершил путь кратчайший, — то газета, публикуемая в Гааге. Посол развернет ее за обедом или у камина.
Галантная французская речь «Цензора», болтающего на разные темы, забавна. Сегодня он посвящает свои страницы гаагским ассамблеям. Они суть трех родов — для коммерсантов, для духовных лиц и для важных особ, понимай, вельмож, министров, дипломатов.
«Когда все соберутся, разносят кофе, потом кушанья, после чего все разбиваются на группы. Кто располагается с трубкой, спиной к огню, кто в укромной тени, в широком кресле, а в углу, смотришь, два собеседника обсуждают, как лучше совершить нападение, взять офицера или ладью, похитить королеву, запереть короля. Иногда разгорается несогласие, от которого страдает иной бокал или иная трубка».
Кого курантщик имеет в виду? Отгадывать бывает нелишне. Похоже, некоему живому королю объявлен шах.
Позавчера француз шептался со шведом. Украдкой, из угла, кинул взгляд на царского посла. К добру ли? Франция связана с Карловой державой давним приятством. Не зевай, посол, примечай, кто с кем играет!
Вечер в такой ассамблее весьма приходится кстати перед встречей официальной. Не менее, чем коришпонденция, доставленная накануне.
— Тять… Приблудный твой…
Сын топырит губы брезгливо, подавая цидулу. Посол разгладил ее, потом вывернул засаленный конверт, — нет ли внутри каких знаков. Несла письмо не почта, французских королевских лилий на печати нет. Следовало оно из Парижа в ящике с парфюмерией, в багаже торгового агента. Нежный женский аромат издает донесение Сен-Поля.
Посол разбирает бисерную цифирь втихомолку, приложив к глазу стеклянную чечевицу. Любопытство сына не утолит.
— Приблудный? Чем не угодил тебе?
— Шатун какой-то, — рассуждает Александр. — Курляндии он не слуга. Так кому же? Болтается в Париже… Продаст он нас, тять.
— Нечего ему продавать. У него свои карты, у нас свои. Наших козырей не видит же оттуда.
В Париже кроме маркиза два резидента — Конон Зотов, сын того Зотова, что обучал юного царя грамоте, да младший Лефорт, сын дружка царского. Оба представляют Российское государство с лицом открытым, оба усердны, да неуклюжи, — Конону поручена коммерция, и Лефорт лезет туда же, запутывает всех сумасбродными прожектами. Истинно сын дебошана… Сен-Поль же «без характеру», коришпондент тайный. Знакомства имеет в столице обширные, вхож к некоторым весьма важным сановникам и услуги его неоценимы.
Александру маркиз досаждает главным образом тем, что каждый раз причиняет мелкие и непонятные хлопоты.
Вот и сейчас…
— Ступай к Шатонефу! Зови отобедать с нами! Запросто, без церемоний…
Экая важность, мог бы послать Огаркова! За что такой почет французскому послу, вздорному старикашке, говорливому как сорока. Твердит свою родословную, парижские сплетни, а то, масляно подмигнув, вспоминает Константинополь, где несколько лет состоял послом. Хихикая, разъясняет нудно, нескончаемо обычаи султанского двора, а особливо гарема.
— Нечего волынить, иди! — понукает отец. — Надулся, лягушка Езопова.
3
Поддев вилкой рыжик, Шатонеф заколебался, но, отведав, придвинул горшочек к себе. Одобрил вкус и меру посола. Семгу смаковал, отрезая крошечные кусочки, запивал водкой, отхлебывая помалу. Еще не пробились через авангард закусок к жаркому, построенному затейником-поваром в виде фортеции, а щеки амбашадура обрели жирную семужную розовость.
Младший Куракин ел рассеянно. Беседа двух послов удручала его. Справляются о здоровье, о лекарствах — какую хворь чем пользовать.
— Доктор Генсиус полагает — чирьи от сырости, — сказал Куракин. — Пускал мне кровь.
— Он и вас лечит? Мне отлично помог.
«Ухо востро держать с этим лекарем, — подумал Куракин. — Зачастил к дипломатам…»
— Пилюли Генсиуса для