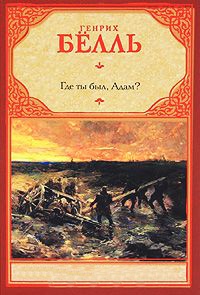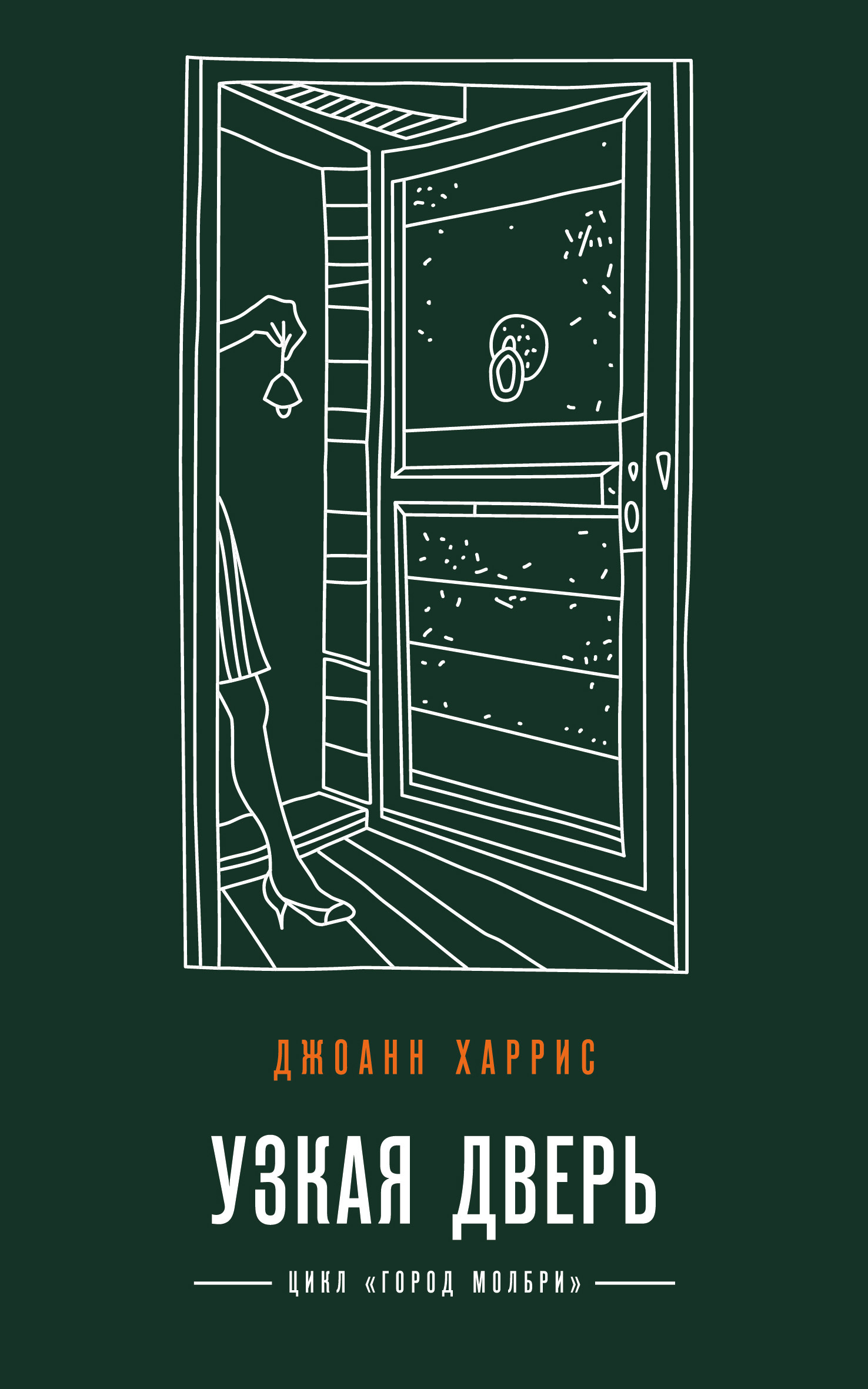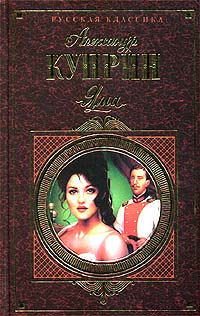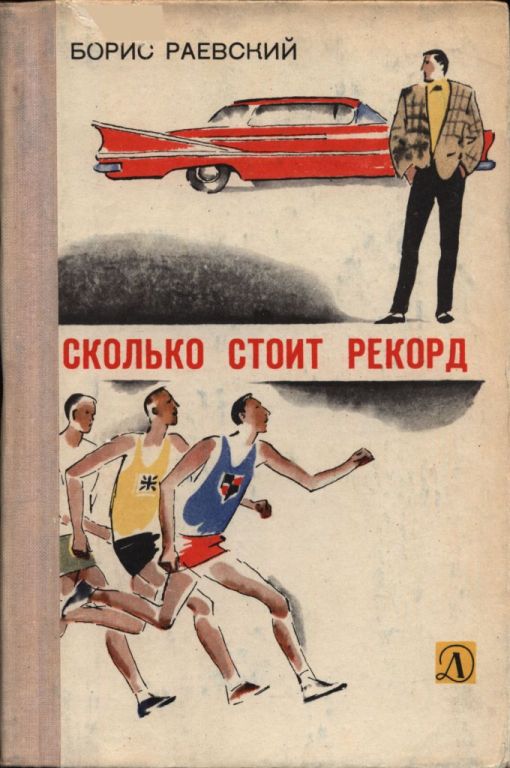висках — те же ячменные завиточки, та же ее задумчивая улыбка. Так же ласково и просто, как это она умела делать, обняла меня и сказала:
— Ну вот и вернулся. Вышло в точности так, как я и говорила.
— А что ты говорила?
— Неужели забыл? Плохая у тебя память.
— Честное слово, не помню.
— И тебе говорила, и сама много думала, и все о том же: вернешься ты, и ты вернулся. Ну, заходи. Я так рада, Миша! И как же хорошо, что ты вернулся.
Еще увидел картину, теперь уже совсем радостную. Будто бы мы с Ефимией одни в степи. Вокруг — простор и простор и ни живой души. Перед нами возвышается курган — величавый степной страж, весь укрыт высокой цветущей полынью, как дымом. Мы взялись за руки и побежали, путаясь ногами в полыни, на вершину кургана. Уселись на макушке, полынь укрыла нас, курилась, поднимаемая ветерком, сизая пыльца, и, что меня поразило, я не ощущал никакого запаха.
— Вот это чудо! Ефимия, что же это со мной творится?
— А что? Ты о чем?
— Полынь в цвету, а я не чувствую ее запаха. Что же это приключилось со мной?
— Пахнет-то как! На всю степь! Да ты что, шутишь?
— Нисколько.
— Значит, плохи твои дела, Миша, очень плохи. Тогда зачем же ты вернулся?
— К тебе.
— Незачем было приезжать, если уже не чувствуешь, как пахнет полынь, да еще и в пору ее цветения. Оставался бы там, в Москве.
Какие невероятные картины и какие странные мысли. Желая ни о чем не думать и ничего не видеть, я стал внимательно рассматривать лица пассажиров. Вторым от меня, с краю, сидел немолодой мужчина; похожий на цыгана. Он спал, откинув назад большую голову и показывая из расстегнутого воротника цветной рубашки толстую, покрытую шерстью шею с крупным кадыком. Он так оброс черной, поклеванной сединами растительностью, что копна слегка вьющихся волос на голове сливалась с шерстью на шее и с бородой, начисто упрятав уши. Вместо уха выглядывала темноватая, толстая, как сосок, мочка, на ее кончике с застаревшей, с твердыми рубцами дырочки свисала серьга, крупная, очевидно из чеканного серебра. Рассматривая это удивившее меня украшение в ухе мужчины, мне захотелось узнать, есть ли такая же серьга во втором ухе, видеть которое я не мог. Пришлось подняться, будто по делу, пройти по самолету и снова вернуться: в таких же черных волосяных зарослях я не увидел ни уха, ни серьги. Снова уселся на свое место. Цыган все так же спал, посапывая, и теперь я увидел, что волосы у него росли и на переносице, сливаясь с бровями, и на груди — рубашка была расстегнута, и в ноздрях. И вот тут я невольно вспомнил оставленную на столе тетрадь и пожалел об этом. Надо было бы записать, чтобы не забыть: эти черные, вьющиеся, крапленные сединой волосы, эту мочку уха, похожую на сосок, эту давно зарубцевавшуюся дырочку и в ней увесистую, из чеканного серебра, серьгу.
Моей соседкой слева была круглолицая молодуха, одетая в легкое, мышиного цвета, пальтишко, повязанная красной косынкой. Она была удивительно похожа на ту проворную, старательную в работе доярку, какую чаще всего можно встретить на Ставрополье, в каком-нибудь захолустном хуторке, где стоит затерянная в степи молочнотоварная ферма. Как у всех круглолицых женщин, нос у моей соседки был несколько вздернутым, и на его кончике почему-то ютилась светлая, как слезинка, капелька. Доярка из ставропольского хутора прижимала к носу платочек, шмыгала и так, не двигаясь, сидела с закрытыми глазами. Когда же она отнимала платочек от носа, капелька, величиной со слезинку, опять появлялась на прежнем месте. Доярка снова, не открывая глаза, прижимала к носу платочек. В это время я хорошо мог видеть ее руку. И точно, это была рука доярки с утолщенными в суставах пальцами, натруженная многолетним доением коров. Иногда этими утолщенными в суставах пальцами она вытирала слезы в уголках глаз. И я снова подумал: если эта доярка из ставропольского хутора, то чего же ради ей лететь в Кишинев, а самолет, как я и был уверен, держал курс на Ставрополь.
Силой удерживая себя, чтобы мысленно опять не умчаться в Привольный, я начал придумывать биографии своим случайным спутникам. Сперва обратился к мужчине с серьгой. Он все так же спал, запрокинув кудлатую голову. Я внимательно всматривался в его курчавую, типично цыганского покроя, бороду, в серебряную, выглядывавшую из волос серьгу. Ему было за пятьдесят. Он, безусловно, цыган, но из тех, кто давно ведет оседлый образ жизни: это было видно и по его городскому костюму, и по новым, с короткими голенищами, сапожкам. Если же судить по рукам, имевшим затвердевшие темные мозоли на ладонях и застаревшие ожоги на пальцах, то он, надо полагать, работал кузнецом в совхозе или в колхозе, а возможно, и на заводе. Дома у него жена и шестеро детей. Почему шестеро, а не семеро? Я еще не знал, не успел придумать. Старший сын, Андрон, такой же, как и отец, плечистый здоровяк, жил отдельно от родителей, имел двоих детей — сына и дочку, так что внук и внучка частенько навещали дедушку и бабушку. И хотя внучата были смуглые, волосы имели смолистые, курчавые, а ничего такого, чисто цыганского, что отличало бы их от других ребятишек, у них не было. Они даже не знали ни одного цыганского слова, и это огорчало бабушку и дедушку. Андрон работал с отцом в одной кузне, но уже не носил ни бороды, ни усов, ни серьги в ухе, и когда уходил в гости или на какое-то собрание, то надевал шляпу, белую рубашку с галстуком. Младший сын, Игнат, находился в армии, писал родителям, что стал шофером, получил водительские права, и когда вернется, то будет работать таксистом. Была у отца и любимая дочь Зарема. Да, да, непременно Зарема! Настоящая цыганка, будто только что из табора, мастерица лихих плясок, умела петь и играть на гитаре. Вот ее-то, свою любимицу, так похожую на мать, когда та была еще девушкой, он и отвез в Москву и определил там