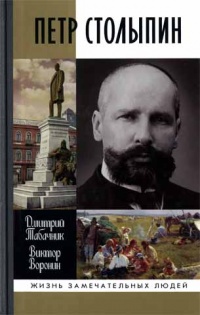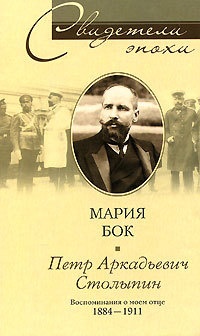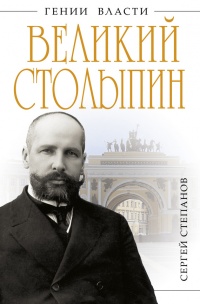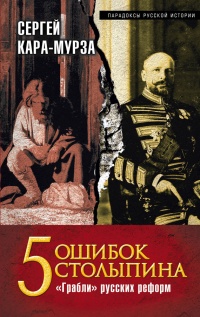Ознакомительная версия. Доступно 26 страниц из 129
Но с отставкой (о которой говорили уже давно) дело обстояло не так просто, как представлялось будущему главе врангелевского правительства Юга России (который в 1920 году пытался в Крыму возродить столыпинский курс реформ). Уже указывалось, что предыдущая отставка Столыпина царём принята не была. Как ответил, не слишком затрудняя себе объяснениями, император: «Я не могу согласиться на Ваше увольнение, и я надеюсь, что Вы не станете на этом настаивать».
Не было никакой гарантии, что на этот раз он поведёт себя иначе. Да, наиболее вероятно, что рано или поздно Николай II сменил бы председателя Совета министров, но, когда именно это случится – определённо предсказать было невозможно. А для некоторых противников Столыпина каждый день его пребывания у власти мешал исполнению их планов, а иногда и угрожал крайне неприятными последствиями. Исходя из этого, вряд ли можно считать убедительным аргумент о том, что придворной клике не имело смысла насильственно устранять Столыпина по причине его готовящейся близкой отставки.
Так, можно с очень большой долей вероятности допустить, что одним из движущих мотивов действий Курлова была назначенная Столыпиным ревизия секретных фондов МВД, которая должна была начаться сразу по окончании киевских торжеств. У шефа жандармов была репутация человека весьма нечистоплотного в отношении казённых средств (особенно после скандального развода и женитьбы на обладавшей незаурядными запросами молодой красавице-графине Армфельдт), и вряд ли он преодолел соблазн запустить руки в почти неконтролируемые секретные фонды. А обнаружение крупных хищений (согласно ряду свидетельств, министр внутренних дел уже получил конкретную информацию по этому поводу) грозило не только увольнением – Столыпин бы обязательно добился предания виновных суду. В этом ему бы не смог помешать даже всесильный Дедюлин.
Встреча Богрова с Лазаревым доказывает, что подготовка покушения на Столыпина не была импровизацией, а велась достаточно давно. Возможно, всё так бы и осталось неосуществленным резервным вариантом, если бы не спусковой крючок в виде приближения ревизии секретных фондов. Курлов не мог дожидаться гипотетической отставки Столыпина и готов был «подыграть» царскому окружению (тому же дворцовому коменданту) в устранении своего начальника любыми способами, причём даже без получения конкретного приказа. Особенно, если ему была ранее (возможно, перед беседой «Аленского» с эсеровским представителем) гарантирована безнаказанность.
Единственный человек, который мог дать такие гарантии Курлову – это Дедюлин. Можно было бы еще вспомнить Распутина – как мы помним, ряд его действий (и наличие мотивов) делает подобное допущение правдоподобным, но всё же дворцовый комендант больше подходит на роль главного руководителя антистолыпинского заговора. Его положение было несравненно прочнее, чем у «старца», а влияние на царя и весь бюрократический аппарат значительно осязаемее и надёжней. Дворцовый комендант мог действовать не через мистически настроенную императрицу, а напрямую через императора. Да и его собственного влияния было достаточно, чтобы решить практически любой вопрос.
Однако Курлов в силу своей профессиональной некомпетентности никак не мог быть непосредственным техническим организатором покушения. На данную роль более всего подходит великолепный специалист по работе с секретной агентурой и тонкий знаток ее психологических особенностей Спиридович. Амбициозный жандармский полковник был давно ориентирован на Курлова и связывал с ним свои дальнейшие карьерные планы. Для ученика великого агентуриста Зубатова отнюдь не было невозможным разработать план задействования в покушении осведомителя без риска для безопасности императора. Тем более, Спиридович официально отвечал только за охрану царя и поэтому ничем особо не рисковал даже в случае начала серьёзного расследования.
В свою очередь, Веригин и особенно Кулябко были фигурами несамостоятельными, и можно было быть уверенным в исполнении ими всех полученных указаний своих патронов. Вероятно, начальник Киевского охранного отделения, полностью находившийся под влиянием Спиридовича, был изначально предназначен на роль «стрелочника», что, впрочем, грозило ему не больше, чем увольнением со службы.
Почему в чужой для него игре участвовал Богров, определённо сказать нельзя. Как и, впрочем, нельзя сказать, что его изначально толкнуло в объятия охранки… Возможно, «Аленскому» просто нравились игры со смертью, а жизнь не представляла ценности. Например, он писал в одном письме в конце 1910 года: «Я стал отчаянным неврастеником… В общем же всё мне порядочно надоело и хочется выкинуть что-нибудь экстравагантное, хотя и не цыганское это дело». Или можно привести не менее показательный отрывок из одного письма Богрова: «Нет никакого интереса в жизни. Ничего, кроме бесконечного ряда котлет, которые мне предстоит скушать в жизни. И то, если моя практика позволит. Тоскливо, скучно, а главное одиноко…».
А вот чрезвычайно интересная и, на наш взгляд, абсолютно психологически достоверная характеристика Богрова, принадлежащая видному большевику Иуде Соломоновичу Гроссману (псевдоним Рощин), который начинал свою революционную деятельность анархистом-коммунистом: «Помню его таким: высокого роста, худой, на щеках разлит румянец – но не производит впечатления физического избытка, скорее румянец чахоточного. Этот румянец придаёт характер болезненной моложавости. Губы чуть отвисают, открывая выступающие, чрезмерно длинные, передние зубы… В лице нет движения. Оно недоуменно застыло… Говорят: Богров – весельчак, Богров искрится остроумием. Ни разу он на меня такого впечатления не производил. Наоборот. Казалось, что этот человек никогда не знал простой радости, не знал «глупого» счастья, не изведал приступа буйства жизни… В душе была осень, мгла… Был ли Дмитрий Богров романтиком? Нет. В нём жило что-то трезвенное, деляческое, запыленно-будничное, как вывеска бакалейной лавочки… Я очень легко себе представляю Богрова подрядчиком по починке больничных крыш, неплохим коммивояжером шпагатной фабрики… И он бы серо и нудно делал нудное дело. Но точно так же представляю себе и такой финал: в местной газете, в отделе происшествий, появляется петитом набранная заметка: «В гостинице «Мадрид» покончил самоубийством коммивояжер шпагатной фабрики Д. Богров. Причины самоубийства не выяснены…».
Да, романтика Богрова – если о ней можно говорить – то только как бы протест против нудной обыденщины и смертоносной «обнажённости», что жила в нем и грызла его. Я ни разу не видел Богрова просто весёлым, радостным, упоённым предстоящей борьбой и риском. Я помню Богрова оживлённым только тогда, когда он острил… А острить он любил. Но было нечто своеобразное в этих остротах. Казалось, дайте Богрову сырой материал мира, и он всё построит по образу и подобию парадоксальной остроты…
С Богровым я встретился в Париже. Он был всё тот же. Внутренне безрадостный, осенний. Он по-старому – жутко острил. Подозрения (имеются в виду подозрения о сотрудничестве с охранным отделением. Они возникали в отношении доброй половины участников революционных организаций, поэтому особо всерьёз их, как правило, не принимали. – Авт.) то возникали, то опять исчезали… Дмитрий Богров не делался от этого ни более осенним, ни более «остроумным».
Ознакомительная версия. Доступно 26 страниц из 129