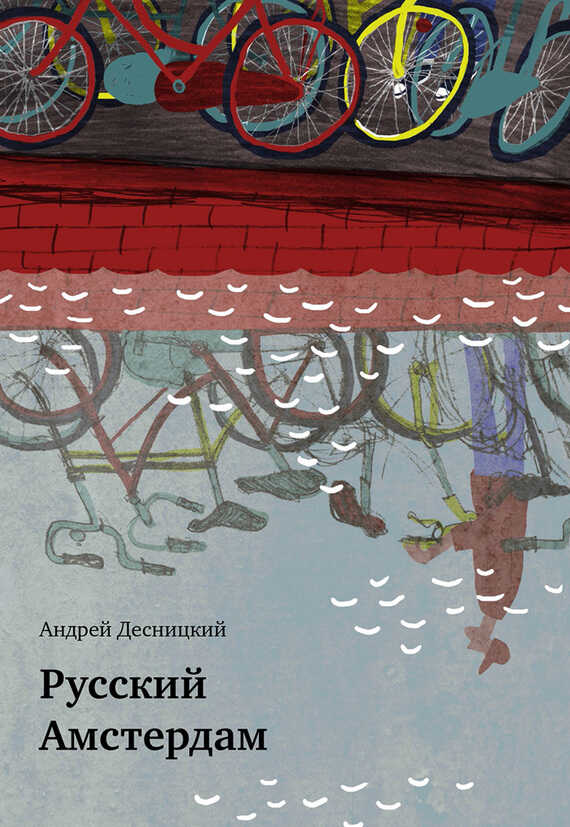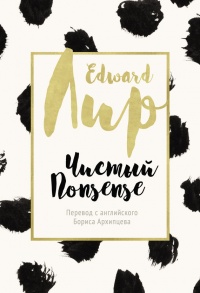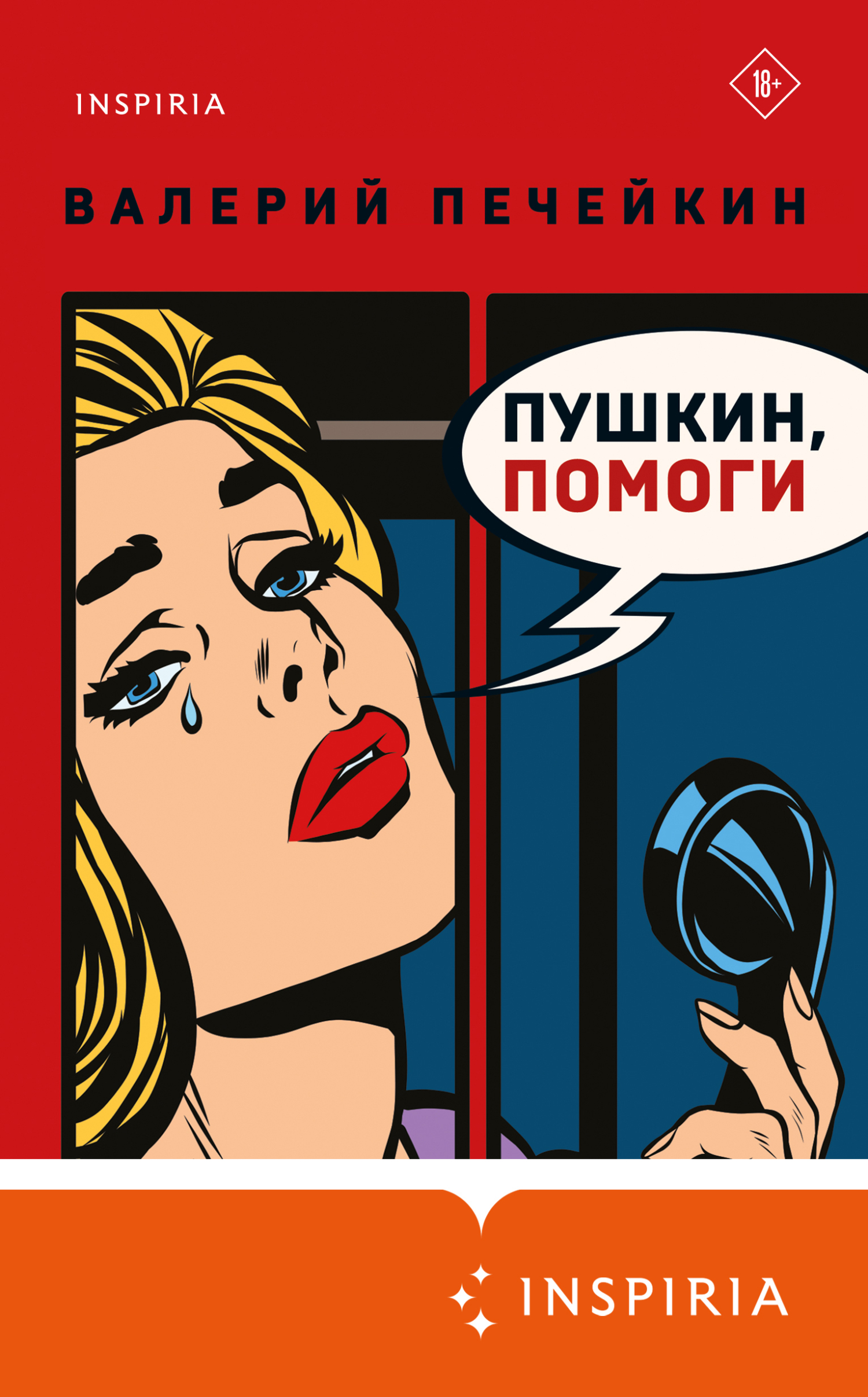навестить. Да это бы и ладно, не в обиду, да неладно служит обедню местный протопоп, по новому никоновскому служебнику, выщипанному усердными справщиками, и лоб свой голый фигой опечатывает. И прихожане-казаки, посадские люди и крестьяне-пахотники, обживающие Сибирь, – все крестились тремя перстами. И не было благоговейности в храме: шныряли детишки, громко перебрасывались словами взрослые, нищие расталкивали молящихся, гнусавили, прося подаяния. И на престоле лежал не восьмиконечный крест Христов, и не дважды, а трижды возглашалась «Аллилуйя», и был выброшен из службы тридцать третий псалом «Благословлю Господа во всякое время, хвала ему непрестанно в устах моих». А уж как вместо семи просфор священник вынул пять, то и содрогнулось сердце Аввакумово, будто из груди его, не зазрясь, выковырнул лживый пастырь само сердце, рассеченное на пять кровоточащих уродцев-агнцев. И вскричал было и уж руки воздел, да оступь сердечная прервала дыхание, и он, убоясь пасть на пол, быстро вышел вон из храма.
Дома долго стоял на коленях пред образом Спаса и шептал, взыскуя к душе своей:
– До старости, до последней седины моей не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего, ибо уязвлён пребываю от нечестивых и не видел спасения от них, доколе не вошел в святилище Твое, Боже, и не уразумел конца их. Так! На скользких путях поставил Ты их, отступников от благодати Твоей, чая раскаяния, но не каются, и Ты низвергнешь их в пропасти.
Не утерпел, так и зудило встретиться лицом к лицу с Евсевием. В церкви его не было, отыскал на дому. Евсевий не обрадовался приходу Аввакума, но в своей келейке усадил за стол. Ни о чем не спрашивал, ждал, с чем пришел к нему сосланный с глаз патриарших своевольный протопоп и – вот тебе – потребованный вновь к государевой руке.
– Гостем твоим долгим не буду, – начал Аввакум, – и где служил ты до никоновской бл…ди, не спрашиваю, на другое ответствуй: как такое сталось, что Никон, новый Пилат, распявь на Руси Христа, бежал со святительского престола тому уж четыре года, а плевелы ереси его, яко плевки мухи навозной, размножаются в вере православной и живут-здравствуют, поедая плоть догматов Исусовых? Тамо в Сибири глубинной, слава Господу, такого блуда нет. Неужто ты, Евсевий, атаман головного полка бесьего, дошед сюда, и дале до моря Байкалова святого достягнуть мудруешь, а?
Евсевий слушал, как вор, внезапно пойманный на злом деле: натурясь плешивой головой, исподлобья глядел на Аввакума блекло-голубыми, как бы прихваченными стужей глазами, будто изготовился поддеть рогом уличившего человека.
– Како велено, тако и служу, куды б ни достягнул, – катая на щеках желваки, сквозь зубы высказал неприятному гостю. – Великий государь Никон всё ещё патриарх на Руси, другова покудова нету, а сюда в протопопы я лично им ставлен, и службы строю по его новым служебникам всею правдой.
«Ох уж насмотрелся я и наслушался правды той. Да чё ж опеть деять? Каков строитель, такова и обитель». И вслух съязвил:
– Правда твоя от слепого, что до сих пор безногих поводырит. Чаешь, не потечет огонь истинной правды от престола Господня и не порушит соблазны ваши? – Аввакум поднялся. – Жди, никонияне! Воссияет от царя-батюшки свет древлей веры.
Вздыбил бороду и, глядя на тёмные киоты в углу, едва подсвеченные слабеньким, изнемогшим огоньком лампады – вот-вот сорвётся и отлетит от фитиля издыхающим светлячком – крепко вдавил персты в лоб, перекрестился по-староотеческому, сурово глянул через плечо на тяжко, по-воловьи, вздохнувшего Евсевия и покинул избу протопопа.
Сидя дома у двери на конике, молчал угрюмо и долго. Марковна, когда он уходил в церковь, как уселась за угол стола, подперши ладонью голову, да так и сидела, печально воззрясь на мужа.
– Сыны-то где? – наконец спросил он и как-то виновато взглянул на Марковну. – Опеть небось на верфи с Гаврилой плотничают, а доча у Ржевских коклюшками рукоплетничает. Деве то и добро.
Настасья Марковна поднялась и, как обычно, неслышно и со опрятством подступила к нему.
– Чё, господине, опечалился еси? – спросила жалеючи. – Сказывай, не пыть себя.
Аввакум сидел, уперев в колени локти и обхватив голову руками, покачивался, зажмурясь, как кланялся.
– Каво мне творити, друже мой жёнка? Стужа еретическая лютует на дворе. Кричать ли мне о блудне сей или сокрыться где? Ох, связали вы меня!
– Господи помилуй! Не говори такое, Петрович! Слышала я – ты сам читал речь апостольскую – «привязался ежели к жене, так не ищи разрешения, а ежели отрешишися, тогда не ищи жены». Я тя с детьми нашими благословляю – дерзай проповедовать слово Божие по-прежнему, а о нас не тужи. Пока Бог изволит, живём вместе, а разлучат, тогда нас в молитвах своих не забывай. Поди, поди, Петрович, каво и страшиться после стольких-то страданий? Вдоль горя туда и оттеля по Сибири едем, да силён Христос и нас не покинет.
Отнял от лица руки Аввакум и, моргая, словно сгоняя с глаз досадную слепоту, встал с лавки, низко поклонился Марковне:
– Другова чего из уст твоих, знал, не услышу. – Обнял ручищами и как упрятал в них протопопицу, зависью бороды скрыл головушку, шепнул:
– Жить – Господу служить, жёнушка, а сеющие слезами радостью пожнут.
И пошел говорить народу с папертей церковных, не входя в храмы, где лукавый празднует. На торгу, у въездных башен градских гудел набатом голос протопопа. Засуетились попы, бросились к воеводе, мол, уйми хулителя, мы народ окормляем новой верой христианской, как положил нам патриарх и царь православный, а он рёвом своим бесстыжим прихожан из церкви повымел, и они за ним табуном ходют, яко за новым пророком Христовым.
Подавали челобитные, а Евсевий даже посохом протопопьим по полу дрызгал, мол, своих людишек в Москву к государю наряжу, поскольку ты, воевода, явно темничаешь, в хоромине своей злыдня принимаешь, а ходу бумагам нашим никак не даёшь.
А и правда: придерживал жалобы воевода Ржевский, не пускал в Москву опасные писули, но и сам не урезонивал Аввакума, а как-то высказал Евсевию, дескать, чего ты ждёшь от меня, коли его сам государь великия и малые Руси своей рукой из ссылки позвал? А по какой нуже, тебе ведомо ли?.. Допишешься, как дать, турнут самого в край света Якутского.
Не любил воевода жалобщиков и, чтя новую челобитную, стенал:
– Боже мой, Боже, всякий день то же!
И не удержался в очередной раз. Пробежал глазами бумагу, швырнул её на стол, накричал на посланца:
– Вякни-ка чернецу Евсевию – пусть своим ходом мимо меня грамотки сии в Москву