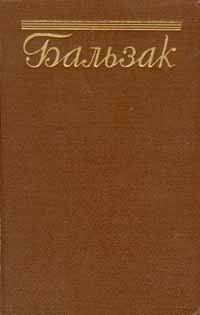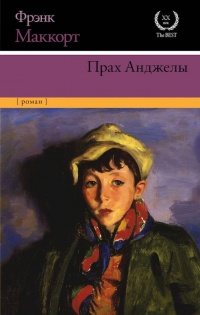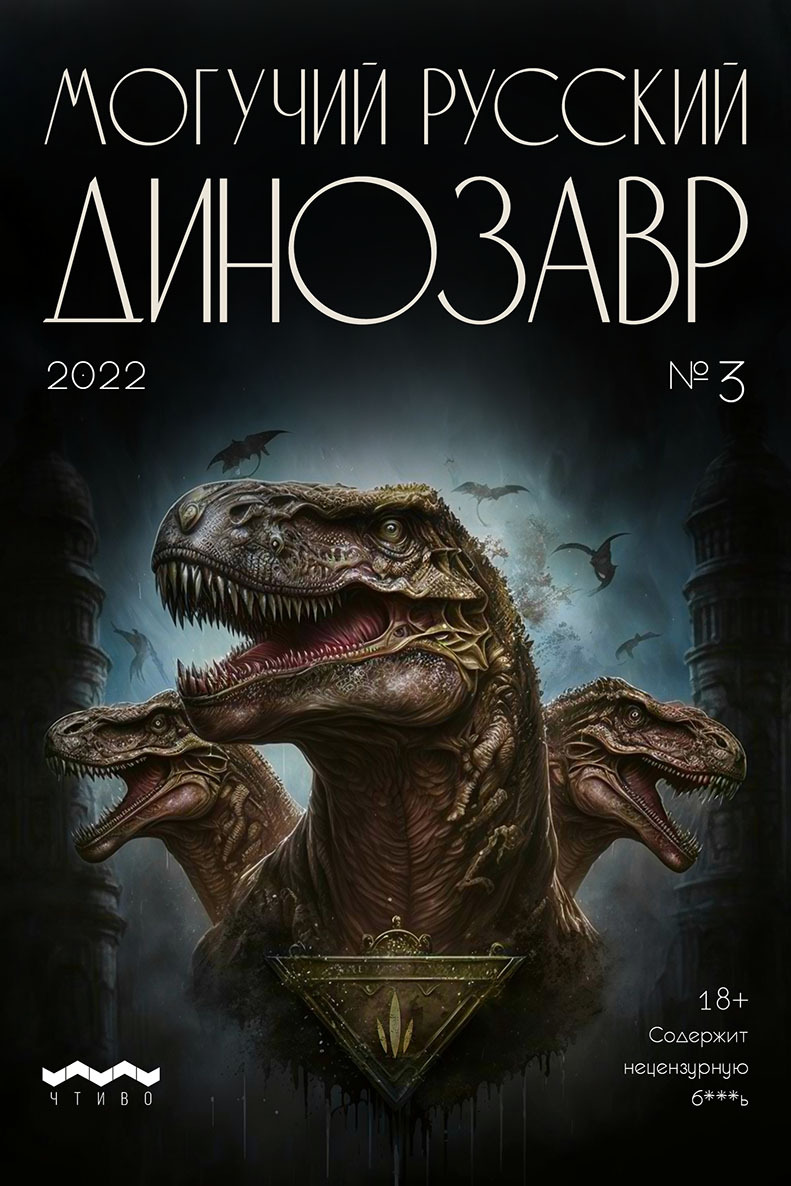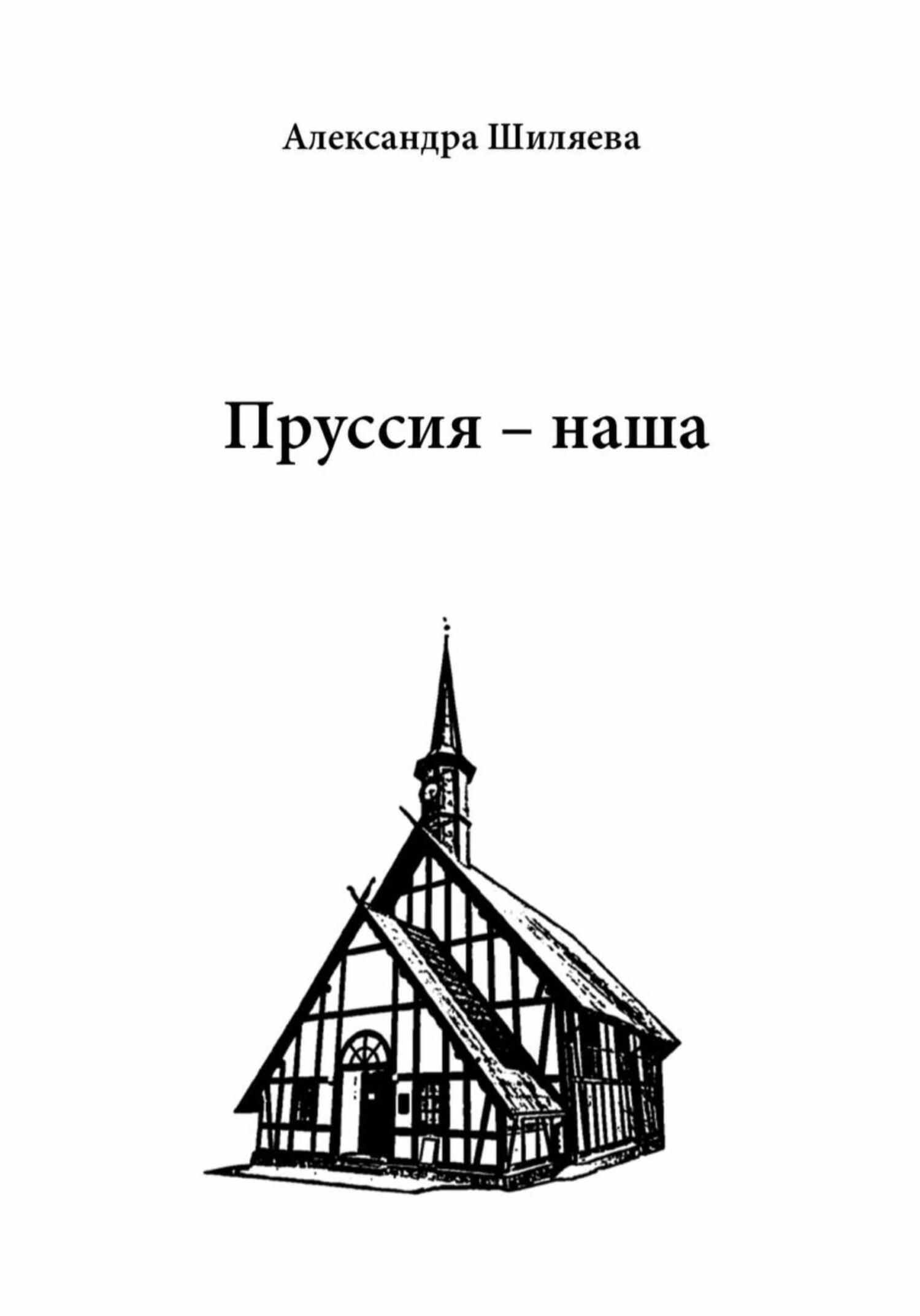мало времени, но уже, возможно, слишком поздно, а другие, например Рудде, Эльна, Сольмаз и Марцин и долбаная куча других, туда еще даже не попали, но было уже слишком поздно, то есть уже, возможно, слишком поздно, хотя некоторые еще не родились, и там были заголовки ШВЕЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ШВЕДСКОЙ, и ЖИВУЩИЕ НЕ ДОМА, и НОЖИ В СПИНУ, и АКТЫ ПИРОМАНИИ, и ПОДЖОГИ ТРАВЫ, это была своеобразная поэзия, острая и подлинная песнь о нашем детстве, затопленном в geschäftsgeist [24], стих о нашей жизни, написанный заглавными и жирными буквами, с такими словами, как ДВА МИРА и СЕМЬ ИЗ ДЕСЯТИ МИГРАНТОВ, и БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ПРИНЯТЬ, и ПУГАЮЩИЕ ФАКТЫ, которые повторялись для усиления эффекта, ПУГАЮЩИЕ ФАКТЫ и ТЕ, КТО МОЖЕТ, БЕГУТ, и вот этот снимок у меня во рту, фотография с темными угрожающими силуэтами, с молодежью, сфотографированной против света перед продуктовым магазином, против света в темноте, этот снимок, и я ведь в то время ничего об этом не знал, по крайней мере знал очень мало, потому что не был одним из тех, кому выпало стоять и позировать перед камерой фотографа, я не был одним из тех, кому выпало стоять и хвастаться ударами с вертушки и ножами-бабочками перед репортером из «Квельспостен», репортером, так до краев наполненным поэзией и стихами и искусством формулировок и чернотой и geschäftsgeist, что поэзия, вероятно, вытекала у него изо рта, как кровь, но текла она целенаправленно, кровь доброй воли, очищенная от насилия, кровь, идущая от доброго сердца, да, кровь, как после выбитого зуба, но у него во рту, и она стекала вниз ему на блокнот, а потом затекала дальше в печатные станки, где ее размазывало по бумаге, которую обрезали, собирали и отправляли назад, в мир, где она всасывалась в мозги людей через глазницы, через зрачки, как будто люди были блохами, обыкновенными постельными блохами, обыкновенными человеческими блохами, как будто их способность читать – хоботок, а газета, сама бумага – кожа, к которой они прицепляются маленькими, но невероятно сильными крючками, а содержание, значение, само предложение – кровавая черная поэзия, вытекшая изо рта репортера, и кровь, которая с помощью этого акта паразитизма, этого акта паразитизма снаружи, всасывалась в человеческие тела, разливалась по их конечностям, примерно таким же образом и в таком же порядке, как младенец развивает свою двигательную активность, крупную моторику и мелкую моторику, то есть сначала попадала в глаза, через хоботок, а потом в лицо и вниз по шее, затем в руки, вниз по корпусу, и в самую последнюю очередь вниз в ноги и в ступни, до самых пальцев, что называется, по всей ширине и на всю глубину, от макушки до кончиков пальцев, что называется, и потом, когда люди двигались, когда они занимались своими делами, когда просыпались и завтракали, когда мылись и одевались, когда, что называется, покидали свой уютный уголок, да, то чернота оставалась там всегда, и когда они потом врывались в мир, свободные и самоуверенные, полные куража и geschäftsgeist, да, то темная кровавая поэзия утекала в атмосферу, примерно как невидимый и лишенный запаха газ, и когда она потом к нам возвращалась, когда мы вдыхали ее, то тоже ею наполнялись, мы, кто там даже не был, и я, кто ничего об этом не знал, я, кто не был частью этой молодежи, я, кто скорее был их младшим братом или соседом, или одноклассником, или тем, кого они пугали, когда я шел с набитой наивными мыслями, озорными мечтами и смелыми надеждами головой, которые вскоре из меня выбьют примерно так же, как приучают к лотку кошку, и таким образом паразитический акт снаружи стал паразитическим актом изнутри, темная кровавая поэзия, берущая начало в наших собственных поступках, заполнила наши тела, как поселившийся в организме ленточный червь, он живет и растет в кишках, питается нашим дерьмом, присасывается к нам крючьями, и присосками, и бороздками, понимаешь, Коди, вот это у меня во рту, вот такие черви у меня во рту, с такими крючьями, и такими присосками, и такими бороздками, я жую их, у меня во рту кишки, у меня во рту собственные кишки, и, наверное, поэтому у меня никогда не получалось сложить это все в голове, ведь папа сказал, что теперь мы приехали в рай, и я знал, что это самая богатая страна в мире, но в газете писали, что это человеческая свалка и что это катастрофа, и я не знаю, переехали мы туда в 1982-м вроде, а про человеческую свалку они писали в 1985-м, и тогда так наверное оно и было, ничего страшного, и что делать на свалке, ну, не делать ничего и создавать хаос, как-то так, а потом смеяться над взрослыми, которые не выдерживают и плачут у тебя на глазах от фрустрации и направленной не в ту сторону эмпатии, или что скажешь, ничего, и хаос, как уже было сказано, больше ничего, это было ничто, а ничто было чем-то, и то, что все-таки было чем-то, – это хаос, вокруг пахло спиртом, кошачьей мочой, по́том и переполненной пепельницей, то, что было чем-то, причиняло боль, это был вот тот смех, то, что мы знали, что это такое оружие – смеяться над всем и говорить, что нам на все насрать, брат, нет ничего, что ты бы мог сделать со мной, что было бы хуже, чем то, куда я прихожу домой каждый вечер, сплошной хаос, брат, и так оно и было, и в этом не было ничего такого, и сейчас, когда я это вспоминаю, я в основном удивляюсь тому, что мы не делали ничего похуже, что мы не жгли больше, что мы все-таки были умеренными, поджигали только траву, и детский сад, и тот сарайчик у гаража, и пару машин и мотоцикл, какой-то сарай около парковки, но никогда школу и наши собственные дома, хоть мы на самом деле пару раз пытались, или удивляюсь тому, что я не прибил Данне, когда он сказал, что мы падальщики, потому что хоть все и знали, что это человеческая свалка, это место, не хотелось создавать впечатление оборванца, так что да, я избил Данне до полусмерти за то, что он обозвал нас падальщиками, кем мы и были, действительно, знаешь, но это не важно, вернее, это было не важно, он не должен был так говорить, это не то, о чем ему стоило говорить, понимаешь, но это было правдой, случалось то и дело, что мамаша кричала нам, что нашла новый контейнер, тогда мы шли во двор и отвязывали велики и катили к металлическому ящику