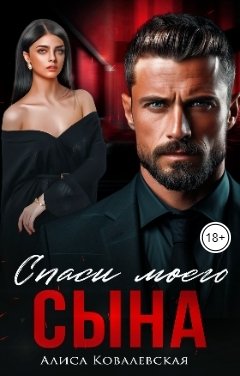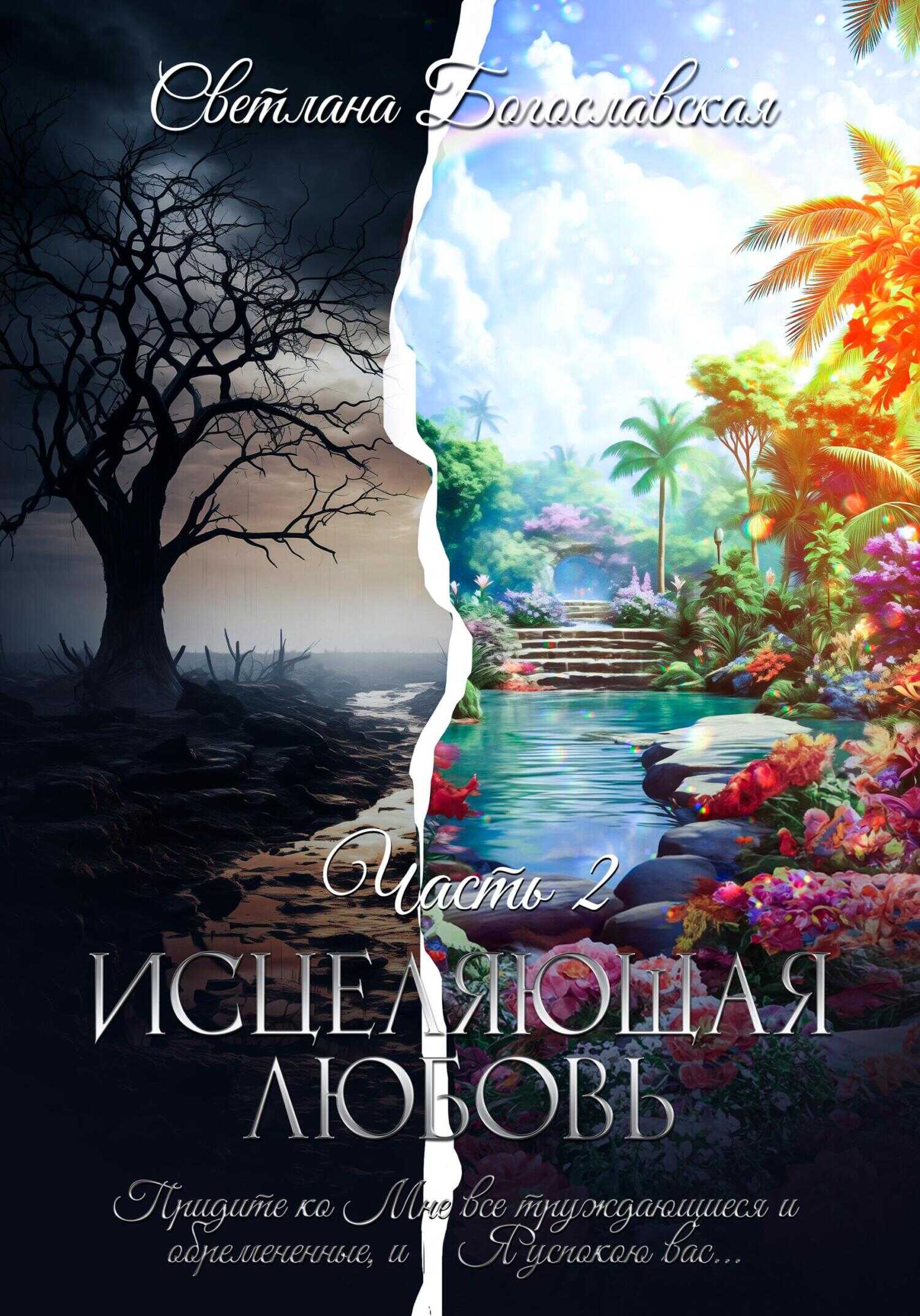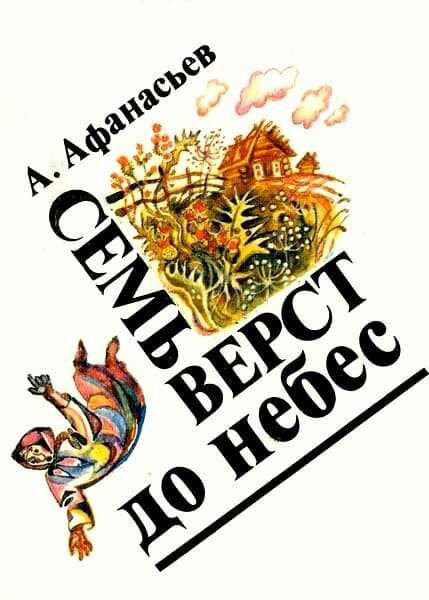с обратной стороны дома и позвонил. Через несколько минут дверь открыла старая женщина. Увидев жандармов, она поспешно прикрыла дверь и, не заперев их, исчезла в комнате. Офицер и двое жандармов пошли за ней. Никита с жандармом остались на крыльце. Когда они остались вдвоем, перед Никитой всплыл очень живой образ, надуманный им за время, пока он следил за незнакомкой. В памяти встала сладкая мечта о награде, о повышении в чине и за этим ласковое лицо начальника. Но он все же не мог понять, доволен он или еще чего-то не хватает. Он боялся, что вскрыл несерьезное дело, и тогда мечты не сбудутся, над ним могут посмеяться. Охваченный этой, незаметно появившейся, тревогой, Никита отошел в глубь коридора и стал прохаживаться: три шага вперед, три — назад. Жандарм стоял как раз на пороге, смотрел застывшим взглядом на свои сапоги, а концом шашки счищал с носков снег.
Минут через двадцать пять дверь комнаты, куда зашел офицер с жандармами, открылась, и свет лампы целым снопом лучей упал на лицо Никиты. Он отвернулся, инстинктивно отошел в глубь коридора. Из комнаты вышли с тяжелыми чемоданами в руках жандармы и офицер, а за ними мужчина в шляпе и молодая девушка. Из комнаты в открытую дверь вслед им смотрели старая женщина и высокий лысый мужчина, отец арестованной. Когда жандармы с арестованными вышли за ворота, они еще несколько минут стояли на крыльце, потом вернулись в дом, а еще через несколько минут немного сзади вслед за жандармами шел отец арестованной.
Метель прекратилась. Изредка налетал откуда-то ветер и, стрясая снег с частоколов и деревьев, бросал его в лицо Никите.
Никита шел позади арестованных, ступая в протоптанные жандармом следы. Теперь ему все случившееся показалось очень простым. Арестованных он не жалел и совсем о них не думал. Думал о предстоящей награде, как о законно заслуженной.
Назавтра в кабинете начальник угостил Никиту папиросой и разрешил поехать на две недели на побывку. А двенадцатого декабря он получил вознаграждение и пять новеньких ассигнаций занес в банк.
* * *
Хата у отца Никиты пять на семь аршин. Одно окно в хате в четыре стекла — на двор да еще под полатями в одно стекло окошко — на огород. Четверть хаты занимает печь, столько же полати. В углу стол и широкие дощатые лавки от стены до стены. В хате низко навис потолок на толстых балках. Под лавкой корыто с тестом, чугуны, кадка. Под потолком на полке миски, две буханки хлеба. В хате спертый кислый воздух.
Когда Никита вошел в хату и разделся, он долго искал на стенах место, где бы повесить свое пальто. И сразу почувствовал, что отвык уже от этой маленькой хаты, что не захочет вернуться сюда уже никогда.
Родители встретили Никиту тепло. Отец три раза с ним поцеловался накрест, а когда Никита намеревался сесть на лавку, мать подошла и фартуком вытерла ее. Когда, поужинав, сидели у стола, отец долго говорил о нехватках в хозяйстве.
— Пускай она сгорит лучше такая жизнь. Это ведь скоро уже хлеба не будет и, кажется, много сеял... И где оно, правду говоря, вырастет у нас. Людей теперь много развелось, и всем есть надо. Так оно жить, наверное, легче с писарства? А может, и тоже?..
Беседой своей отец хотел кое-что выведать от самого Никиты.
— Ты насовсем в это писарство пошел или как? Если будешь дома жить, так хоть сени какие-нибудь пристроим из досок или другое что... Тесно...
Жена Никиты сидела на конце лавки, а мать стояла у печки. Она внимательно следила за беседой, за словами старика, и, как только он сказал о тесноте, вставила:
— Конечно, тесно... Как соберемся к столу все, повернуться негде, спинами друг о дружку тремся.
Эта беседа вызвала у Никиты ощущение громадной разницы между его жизнью за последние месяцы и жизнью родителей. Эта разница во всем: в одежде, в питании. Черное чистое пальто Никиты, висевшее на крючке возле полатей, резко выделялось на фоне серых бревен стены и серой одежды, брошенной на полати, казалось нарочито отталкивалось от них, чтобы не испачкаться. И Никита сам время от времени поглядывал на пальто, и у него появлялось чувство отвращения, он боялся, что со стены, с армяков и кожухов налезут в пальто тараканы и вши.
Отец Никиты хорошо понимал разницу между своей жизнью и жизнью сына и в беседе сам намекал на это.
— Наш волостной писарь,— говорил отец,— вон как живет, как господин: дочерей одел, сына в городе в гимназии учит, а в губернской канцелярии если его посадить, так и совсем бы не признал. Я недавно адвоката в городе знакомого встретил, как сказал, что ты в губернии в канцелярии служишь, так он вот как завидовал и хвалил тебя. Очень, говорит, хорошее твой сын место занял.
Никита понимал отца и отвечал ему, многого не договаривая.
— Оно ничего, если удержусь. Буду жить.
А отец советовал:
— Хорошо служи, так почему не удержишься. Лишь бы начальства слушался, удержишься.
Только жена иначе думала о Никитиной службе. Она боялась, что Никита бросит ее, простую бабу, поедет один, и потому вслед за отцом торопливо проговорила:
— Дай боже, чтоб ты не удержался, может, и я по-человечески пожила бы тогда.
— Вот глупая,— ответила на это мать,— если удержится, так и тебя возьмет в город и детям хорошо будет, не будут в навозе копаться.
— И ждать не буду,— вставил Никита.— Я ведь и приехал за тем, чтобы взять тебя, квартиру уже нашел хорошую. Поедем, а летом будем в гости к отцу приезжать.
Жена глянула на Никиту ласково, хотела радостно улыбнуться ему, но от этой радости подкатился к горлу клубок, вспомнила все, что перетерпела, и захотелось заплакать. Она поднялась с лавки и вышла из хаты.
* * *
В 1915 году старший брат получил от Никиты письмо, в котором после поклонов всей семье брата было написано следующее:
«...И меня мобилизовали. Я скоро поеду на фронт, и Меланья останется одна с детьми. Из В... уже все бегут, боятся немцев, так я прошу тебя, дорогой брат, не откажи, когда приедет к тебе Меланья, дай ей в своей хате уголок, а я уже, как вернусь с войны, если жив буду, отблагодарю тебя...»
Когда Никита писал это письмо брату, двадцать четвертый сибирский полк стоял в двадцати верстах от фронта, в