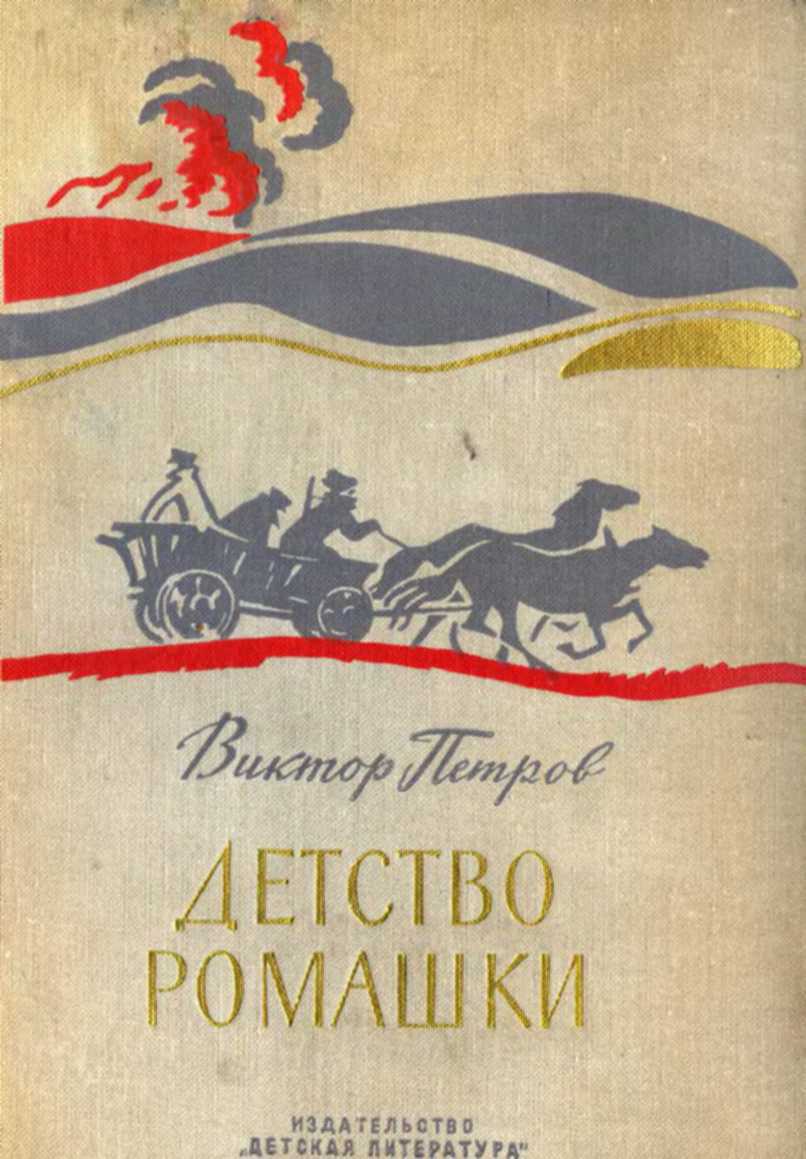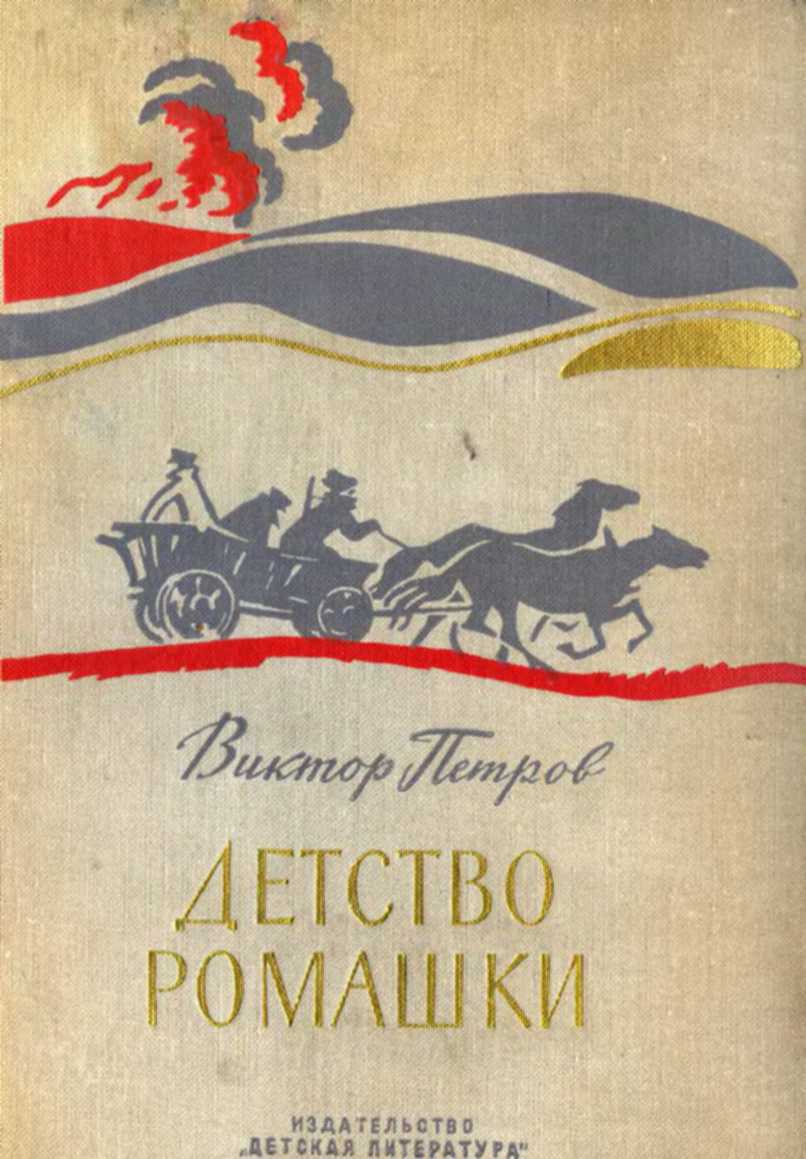находить подбитую охотниками дичь: куропаток, перепелов, зайцев. Его сила в остром нюхе. Он за километр учует фазана.
Из толпы выступил мой друг Джума:
— Почтенный Тангрыкули-ага, говорят, что эта собака понимает человеческую речь, правда ли это?
— Верблюжонок мой, — улыбнулся отец, — хорошая охотничья собака не то что речь, она поглядит в лицо хозяина — и мысли его угадает. Жек ещё молод, но уже учён. Если я положу на землю ружьё и прикажу стеречь, он не отойдёт от ружья ни на шаг.
Джума снова не выдержал:
— У него две пары глаз, что ли?
— Над глазами у Жека подпалины, фальшивые глаза, чтобы дичь завораживать.
Целую неделю наш дом принимал гостей: люди аула приходили посмотреть на чудесную «четырёхглазую» собаку.
КИНО И ДРУГИЕ ЧУДЕСА
Я родился в 1930 году. В те годы сахар делали головками, но был он редкостью. За чаем мама давала нам по кусочку, величиной с косточку урюка, и всегда говорила: «Ешьте до крошки, не роняйте! Сахар подбросила нам добрая птица». Напившись чаю, мы усаживались вдоль стены дома, на солнышке и ждали добрую птицу. Маме она, хоть редко, но показывалась, а к нам так ни разу и не прилетела.
О конфетах в обёртке, да ещё в серебряной или в золотой, мы даже не слыхали. Оттого-то, видно, мы так плохо понимаем своих детей, которые не доедают конфеты, а то и бросаются ими.
Кино… Едва научившись ходить, современный малыш добредает до телевизора и щёлкает ручкой в поисках нужной ему программы. Я уже в школу ходил, когда впервые увидал кинофильм.
Помню запряжённую быками телегу. Отец, мать, Аннали-ага, его жена собираются ехать на выборы, голосовать.
— Меня возьмите! — клянчу я. — У меня тоже голос есть.
Взрослые смеялись.
— Не тот у тебя голос, Каюм.
— Не возьмёте в телегу, я бегом побегу.
Отец добр, все в праздничном.
— Ладно, — говорит он. — Надень ушанку, сапоги, да пальтишко новое.
Мы приехали к сельсовету.
В огромных казанах прямо возле дома варили шурпу и плов. Дети грызли печенье, бегали друг за другом. Я к детям не пошёл, ни на шаг не отходил от отца. Ему дали какие-то бумаги, и он опустил их в красный ящик. Вот мы и отдали свой голос! — весело сказал мне отец.
Я не понял, но переспрашивать постеснялся. Отец взял меня за руку и провёл в тёмную комнату. По белой стене бегали люди, разевали рты, шевелили губами, но так ни одного слова и не сказали.
— Папа, что они нам кричали? — спросил я отца о людях, бегавших по стене.
— Сынок, это — кино. Картина немая. Говорят уже и звуковое кино есть. Когда до нас доберётся, посмотрим и послушаем.
Вскоре и в нашем доме появилось чудо. Мой старший брат купил «чёртово колесо». Для нас, маленьких, да и для взрослых, машины были как живые редкостные существа. Им смотрели вослед. Даже аксакалы почтительно останавливались, когда машины катили мимо.
Первые дни брат никого к велосипеду не допускал, всё не мог наездиться, потом принялся катать нас. Велосипед у него был лучшей марки, с фарой.
До сих пор помню: ветер, пахнущий дымком саксаула, мы мчимся в кромешной тьме, дрожащий луч фары выхватывает у ночи кусочек дороги, дорога белая от света, со сверкающими белыми пылинками в воздухе, с мошкарой, летящей на свет. И вдруг высокий, чуть дребезжащий голос бахши, — певца, сказителя преданий старины.
Мы ехали к дому Ханджа-аги. При жёлтом свете керосиновой лампы на топчане тесно сидели люди.
Вместо блюда с пловом или таза с шурпой посредине топчана, на дастархане, стояла машина-бахши — так у нас в ауле называли тогда патефон.
Меняя пластинку, Ханджа-ага, как конферансье, объявлял, кто и что сыграет и споёт, крутил ручку, опускал на диск мембрану и замирал, подперев голову руками.
— Вот настоящее чудо! — говорили люди друг другу. — Никогда на свете такого не было, и какое же счастье, что мы дожили до этих удивительных дней.
ОТЕЦ
У моего отца были широкие плечи, круглое лицо, рыжеватая борода. С виду он был медлительный, степенный, свою ловкость и быстроту отец на людях не показывал. Это — для степи, для охоты и для работы. Мой отец пас коров.
В детстве я видел отца редко. Мне снились сладкие утренние сны, когда он уходил со стадом, и мне снились вечерние скорые сны, когда отец возвращался домой.
Отца я по-настоящему узнал, когда пошёл в школу. Он учил всех своих детей, хотя сам был неграмотным. Единственно, что он умел, — вывести латинскими буквами своё имя: Тангрыкули. После этого писания язык у него всегда был синий. Отец писал химическим карандашом и, прежде чем вывести букву, прикасался карандашом к кончику языка.
Я знал: когда отец, покашливая, расхаживает вокруг дома или, сидя, снимает косматую шапку, тельпек, и поглаживает наголо выбритую голову — верный знак: у отца хорошее настроение. Можно смело подойти и выложить любую просьбу. А вот если отец смотрит мимо человека, часто потирает руки, значит, расстроен или гневается. В такие минуты лучше на глаза ему не попадаться.
* * *
«Чёртовы колёса», мотоциклы, легковики, грузовики, тракторы-силачи… Мы всё меньше мечтали о прекрасных скакунах и больше о машинах.
Втроём — Язли, я и мой младший брат — построили арбу на четырёх колёсах. У неё даже руль был. Мы закатывали наше чудо на высокий холм и катили «на базар». Ничего лучше базара нам и в голову не приходило. На базарах мы видели много людей, на базарах нам покупали сладости и обновы.
Ребята завидовали нашей арбе, мы давали им покататься, никому не отказывали. Но однажды к холму приплёлся маленький Чары, ему было лет пять всего, и мы его звали Чарышка. Он тоже стал проситься в арбу, а я его не пустил. Катание было совсем не безобидным, можно было перевернуться, сломать руку, ногу.
— Тебе нельзя, — сказал я. — Сначала подрасти.
Вечером к нам в дом явился отец Чарышки.
— Твой Каюм обижает маленьких, — сказал он моему отцу. — Он побил Чары. Мальчишка до сих пор плачет.
Я попытался рассказать правду, но отец не стал меня слушать. Он высек меня на глазах отца Чарышки, чтоб тот не сомневался: виноватый понёс наказание.
Отец Чары успокоился и, уходя, пообещал мне:
— Ещё раз нахулиганишь, я тебя цыплёнку с седлом отдам.
Мне шёл восьмой год. Я не боялся темноты и страшных сказок, но в тот день