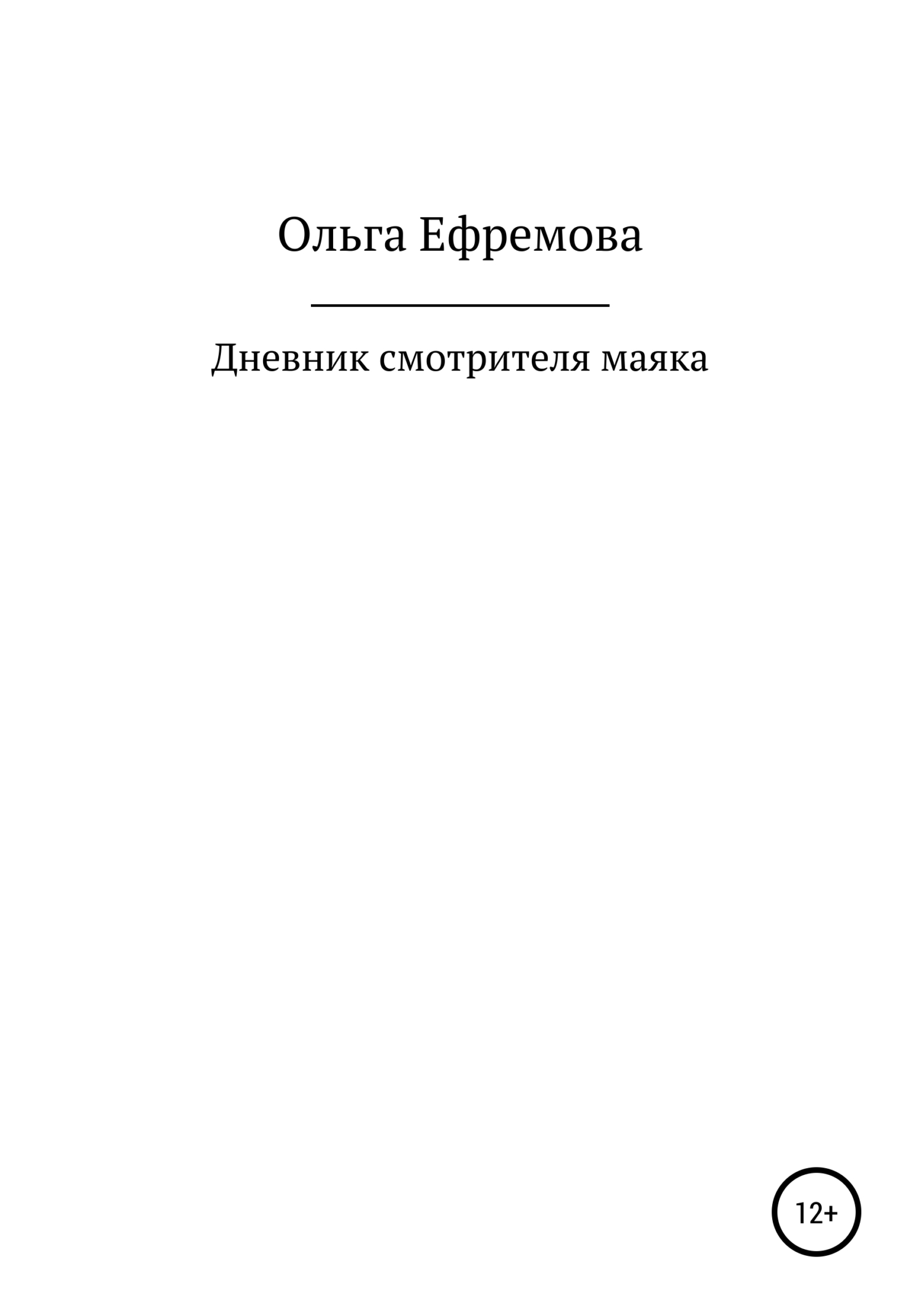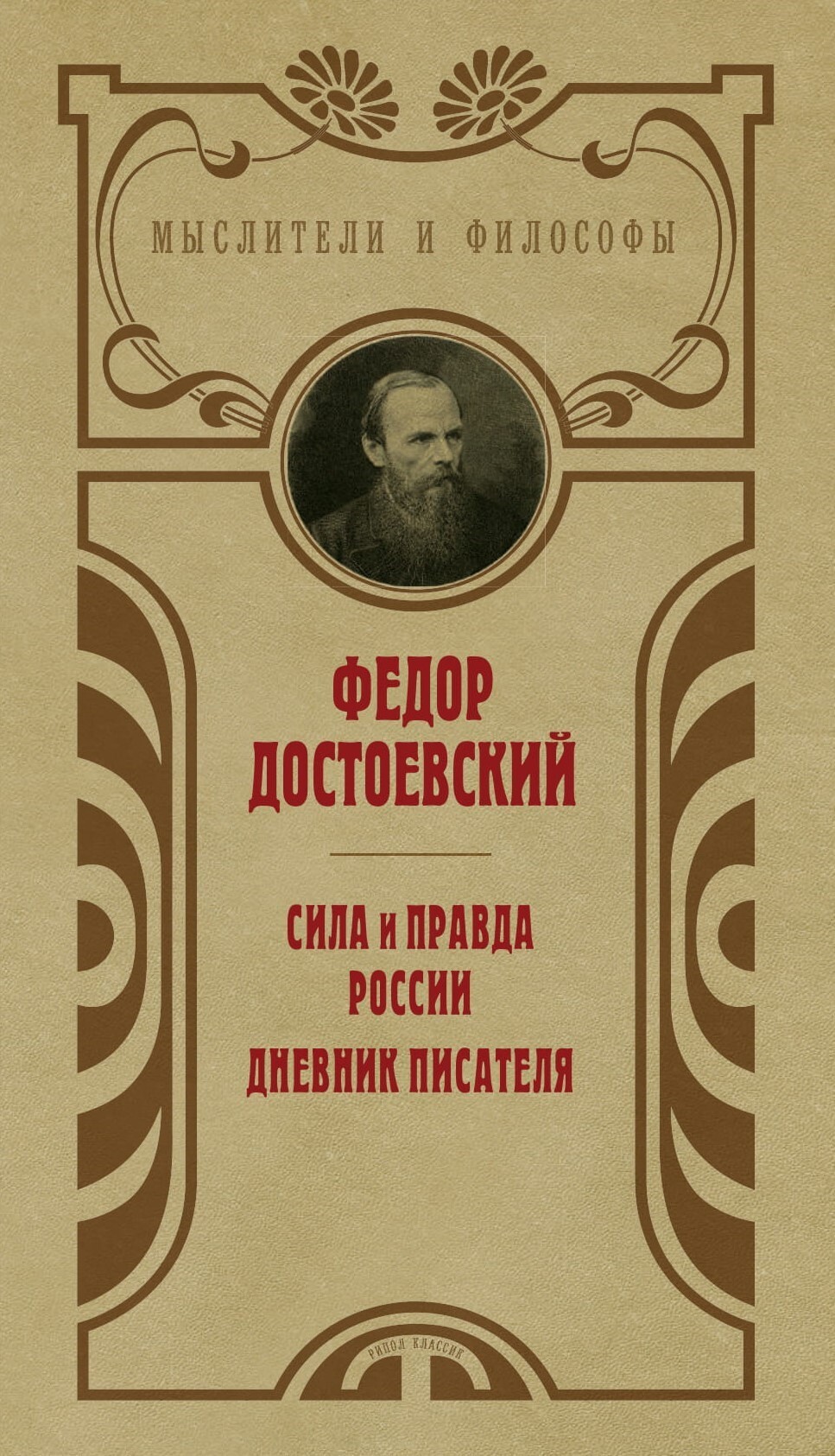возразил гравер, я и сам не понял, что с ней. Боюсь в следующий раз я уже не смогу ей помочь.
– Так это происходит уже не в первый раз? – спросил скульптор.
– Я сам не знаю, как все это началось, – ответил мокрый гравер.
Я собирался сегодня пригласить натурщицу для одной небольшой фигуры и писал, как раз ей приглашение, когда подошла моя жена, прочитала через мое плечо то, что я написал, затем вырвала у меня открытку из рук и стала кричать: чтобы я не смел брать натурщицы; что раньше она сама была достаточно хороша для этого дела, да и теперь еще вполне годится. Я говорю ей: конечно, конечно, но теперь ты так слаба. Во-первых, – говорю я ей, – ты легко можешь простудиться, а затем, ты и десяти минут не выдержишь стоять неподвижно, и кроме того, – вот тут-то и взорвалась бомба, кроме того, ты теперь слишком худа. Тут то все и началось.
И какой статной и полной она раньше была, и кто во всем виноват, что она слаба, что она просто кожа да кости! Конечно, только я! Вечные заботы! А грошей, которые я зарабатываю, еле хватает на жизнь, а когда остаются лишних две три марки, то и их боишься тратить, так как не знаешь, что будет завтра. Когда она, мол, была натурщицей, то у нее было такое красивое белье и, по крайней мере, два новых платья ежегодно, а теперь, вероятно, ей придется серебряную свадьбу праздновать в том самом зеленом платье, которое она надевает на каждый праздник; она, мол, не понимает, зачем она вообще и замуж-то вышла за меня, это была глупость с ее стороны ну и дальше все в таком духе, ты, ведь, знаешь ее красноречие.
– Ну, а дальше то что? – спросил скульптор.
– Да я и сам не знаю. Хотя… Ах, да, вспомнил. И так я хотел успокоить ее, и говорю: «дитя мое, не забывай, как мы любили друг друга, как ты была счастлива, что тебе больше не придется каждый день бегать к другому художнику и позировать за деньги». Тут она опять начала: «так, значить только я одна получила выгоду от нашего брака, а ты нет?! А как у тебя квартира раньше выглядела? – Знаешь, – тут гравер опять обращается к скульптору; (собственно говоря, следовало бы все, что каждый говорит, писать разными чернилами, слова скульптора – красными, гравера – синими, а женщины – зелеными, тогда не приходилось бы вечно повторять эти скучные: «он сказал», или «сказала она») – на чем же я остановилась, да, мокрый говорит: «знаешь, и она мне на одном дыхании перечисляет мне все воротники, рубашки и носки и тому подобное, что она мне зашила или заштопала, и как хорошо она готовит, и как мало денег она тратит на хозяйство и прочее. Тогда, чтобы исправить ситуацию, я и говорю ей: «ну да, мое сокровище, ты чудесная женщина, если бы только ты не ссорилась из-за всяких пустяков и не пыталась так часто лишать себя жизни!» Ты, ведь, знаешь, что она уже четыре раза бросалась в воду. Тут она как вскочит: «так часто, так часто! Ага, так тебе было бы приятнее, если бы это произошло один раз, но всерьез? Да?» А я и отвечаю: «да!»
Она моментально шмыгает за дверь; а я должен был сначала надеть сапоги и пальто и только потом пошел за ней.
– Что ж ты за животное такое, – сказал скульптор, – как можно быть таким хладнокровным! Ты начинаешь одеваться, когда твоя жена бросается в воду?! Тогда бедный гравер, дрожавший всем телом от холода, тихонько говорит своему приятелю: «я знал, что она только тогда бросается в воду, когда я в 10–20 шагах от нее». Но как ни тихо он это сказал, его жена все же услышала, так как она вдруг говорит: так, вот значит, как ты думаешь, ну, хорошо, в следующий раз». Тут скульптор и гравер захохотали, сели рядом с ней, начали говорить ей всякие глупости, и, наконец, она присмирела и обещала, что больше не будет бросаться в воду. Но затем сказала: «что же будет дальше? В таком виде ни я, ни муж, мы не можем отправиться домой»! Начали обдумывать что делать. Угля в мастерского скульптора больше не было, и нельзя было затопить печку. Тогда я из-за ширмы предложила съездить в их квартиру и привезти вещи. Предложение было принято, но для того, чтобы меня не приняли за воровку, скульптор поехал со мной.
Мы взяли экипаж и поехали в такую часть города, о которой я никогда бы не подозревала, чтобы там могли быть мастерские художников. По дороге скульптор говорил со мной о различных вещах. «В сущности, – сказал он, история эта очень печальная, хотя мы все и весело посмеялись над ней. Женитьба для художника очень опасная вещь. Бедняги легкомысленно влюбляются в девушку и, в первое время, когда они только начинают совместное хозяйство, они думают, что у них рай на земле. Но жизнь художника меньше всего состоит из «хозяйства». В жизни художника главное это то, чтобы он не был лишен той цели, которую он себе наметил. И, если на первое место выходят семейные интересы, то конец всему». «Только не выходите замуж за художника, – обратился он ко мне, – помимо всего прочего, они люди с сильным темпераментом, и вместо брака получается вечная буря, как у парочки, в квартиру которой мы сейчас едем».
Мы приехали на Бельфорскую улицу (она кстати находится недалеко от меня), поднялись по бесконечной лестнице, и, наконец, оказались на месте. «Странное чувство, когда отпираешь чужую квартиру, не правда-ли? – сказал скульптор, – однажды мне уже приходилось выламывать дверь, эту историю я расскажу вам на обратном пути».
Маленькая, темная прихожая, в которой стояло пара ящиков да несколько проволочных вешалок для одежды. Первая маленькая комната со скошенным потолком была, очевидно, и мастерской, и гостиной, и столовой. Перед одним окном стояла наклонная рама, обтянутая шелковой бумагой, под ней стол, на котором, на тоненькой подушке, лежала черная пластинка с красными линиями. Скульптор, казалось, совершенно забыл о нашем поручении и цели нашего прихода, он немедленно подошел к раме с бумагой и долго и серьезно смотрел на нее. Теперь я увидела, что это была пластинка, покрытая черной краской и там, где острием инструмента была снята краска, виднелась красная медь. Скульптор показал затем на одно место и, не говоря ни слова, обвел его пальцем в воздухе. Я часто встречала этот