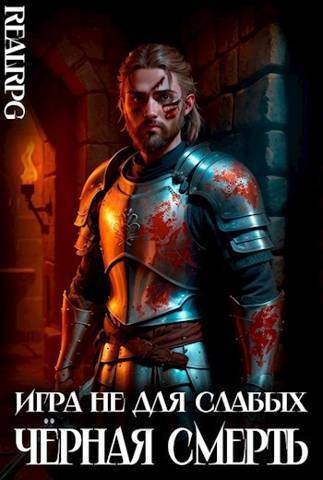Шурой мы продолжали мирно сосуществовать. Шура стирала наше постельное белье в корыте на кухне. Это называлось «большая стирка». В комнате Шуры стояла огромная кровать с никелированными шишечками, в изголовье кровати лежала груда подушек с кружевной накидкой, низ кровати был украшен подзором.
Во второй отобранной комнате жила работница Даша. Иногда Даша приводила кавалеров. Когда кавалер должен был ее посетить, по всей квартире разносились разнообразные запахи: пахло каленым железом от гревшихся на примусе щипцов для завивки волос, жжеными волосами и райски пахло жаренным на постном масле луком. У нас жарили на «русском» (топленом) масле. Даша была хмурой, малосимпатичной женщиной — не то что добрячка Шура.
Наша жизнь с Шурой и Дашей продолжалась, как мне кажется, довольно долго. Но вот однажды папа пришел с собрания домкома не столько огорченный, сколько смущенный. Оказалось, что он вроде бы добровольно отдал нашу третью комнату, кабинет. Папа мой часто увлекался и совершал, мягко говоря, необдуманные поступки. Он отнюдь не был булгаковским профессором Преображенским и тушевался перед «швондерами». Более того, хотел с ними дружить. В общем, нас опять уплотнили. В 20-х годах понятие «уплотнение» было таким же важным, как в дальнейшем при советской власти «отоваривание», то есть покупка самых необходимых продуктов. Только термин «отоваривание» воспринимался со знаком плюс, а термин «уплотнение» — со знаком минус.
Второе уплотнение произошло точно по Зощенко. Тех, кто жили в «хижинах», вселили во «дворцы», а тех, кому «дворцов» не хватило, — в квартиры других граждан. Нашим новым жиличкам «дворца» явно не хватило, и они поселились в папином кабинете, где до того лежал большой красный ковер. Мне было лет пять. И я вдруг оказалась у себя во дворе в центре внимания. Интрига была в том, что новые жилички будто бы были коммунистками. А в нашем церковном дворе никто сроду ни одного коммуниста не видел. Разве что на портретах. И вот всем захотелось посмотреть на живых коммунисток.
Как коммунистки въезжали — не помню. Но их самих помню, словно я рассталась с ними только вчера… Одна коммунистка была, впрочем, не коммунисткой, а вовсе беспартийной. Обе были не в кожанках с маузерами на боку, даже не в красных платочках. Коммунистка оказалась крупной женщиной с зычным голосом. Звали ее Цирой Абрамовной. Вы догадались — она была еврейкой. Да простят меня все евреи в Москве, Нью-Йорке, Иерусалиме и в других городах и весях, но первая коммунистка, увиденная мной, была еврейкой. И к тому же, как я потом поняла, шумной и бесцеремонной. Но я, как знаменитая Нина Андреева, не могу поступиться принципами: взялась писать правду и пишу ее. Напарницу Циры звали Соней. Софьей Григорьевной. Соня была маленького роста и курносая — в отличие от носатой Циры. Каким ветром занесло этих девиц на нашу жилплощадь в наш дом — понятия не имею. За какие заслуги большой Цире и миниатюрной Соне дали ордер в Москве? Цира, кажется, где-то служила, Соня, по-моему, не работала. Впрочем, Соня меня тогда не сильно интересовала. А к Цире интерес был чисто локальный. В Цире меня поражали какие-то сверхъестественно густые черные волосы, закрученные в странную прическу. Соня была стриженая, что тоже у нас во дворе считалось непорядком. Меня коротко стригли, мне это полагалось — я была маленькая. Взрослые же носили пучки. Конечно, не такие, как Цира. Как теперь понимаю, Цира и Соня были бедными девушками, мебели у них, кажется, не водилось, во всяком случае, шкафа платяного не было — платья висели за простыней. А у Шуры и Даши были настоящие «шифоньеры». Шура, когда не стирала, готовила на примусе обед. Даша по вечерам жарила картошку на постном масле. Наша прислуга Поля каждый божий день стряпала. А коммунистки вообще не показывались на кухне.
В патриархальный дом новые жильцы никак не вписывались. Не принято было, чтобы не родня, а посторонние люди жили в одной комнате. Тем более что никто не понимал, почему барышни говорили, что у них «все общее». Как-то я подслушала разговор взрослых. Кто-то рассказывал: «И вот я Циру спрашиваю: “А как вы поступите, если к вам придет в гости, ну, сами понимаете, ухажер?” А она отвечает: “Тогда Соня пойдет погулять”. — “А если мороз будет?” — “Постоит в парадном”». И все рассмеялись и покачали головами. Дескать, и впрямь у коммунистов, наверное, общие жены и мужья. Это я сейчас так понимаю смысл разговора. А тогда смысла не улавливала. Но сочувствие мое было на стороне жиличек. Ничего предосудительного в проживании Циры и Сони в одной комнате я не видела. Зачем бежать на мороз? Подумаешь, гость!
Невдомек мне было, что в том разговоре отразилась схватка двух мировоззрений — отсталого мировоззрения нашего двора и передового советского, которое у нас представляли Цира и Соня. Не знала я и того, что за спиной новых жиличек стояла поистине «могучая кучка» таких дам, как Инесса Арманд, Александра Коллонтай, Лариса Рейснер, Мария Андреева, Бетти Глан, сестры Виноградские и многие-многие другие. Их теперь называют в прессе «валькириями», но я бы скорее вспомнила не древнегерманские саги, а нашего замечательного писателя Н.С. Лескова и его «воительницу» — Домну Платоновну, женщину энергичную, предприимчивую, но весьма склочную и даже бессовестную.
Все перечисленные выше валькирии-воительницы пришли из Серебряного века, были высокообразованными женщинами, знали языки, владели пером, а их донжуанские списки сплошь состояли из выдающихся мужчин — Инесса Арманд была любовницей Ленина, красавица Мария Андреева, актриса МХАТа, на которую заглядывался и Чехов, — возлюбленной Саввы Морозова и 18 лет гражданской женой Горького. Лариса Рейснер крутила романы с Гумилевым, с коммунистом Раскольниковым, а потом с неказистым, но блестящим острословом Радеком. Самая радикальная из этих дам — Александра Коллонтай, генеральская дочь, была замужем за могучим матросом Дыбенко, моложе ее лет на 20. А прочим любовным связям вообще не придавала значения; для нее половой акт — «глоток воды» в жаркую пору, а толстовская Наташа Ростова — «мещанка» и «самочка». Все это, однако, не помешало ей стать крупным советским дипломатом.
Во времена моего детства валькирии боролись за равноправие в любви, за «дома-коммуны», за новый быт и призывали не воспитывать детей в семье, а отдавать их в коллектив, а бойфрендов менять почаще. Впрочем, эта напасть, по имени «женская эмансипация», охватила отнюдь не только молодую Советскую республику. Умнейшая Нина Берберова, эмигрантка, в своей книге «Курсив мой» писала, что ей омерзительна «психология гнезда», то есть семьи. «Теплому гнезду» и «инкубатору» Берберова противопоставляла «муравейник». Производственный