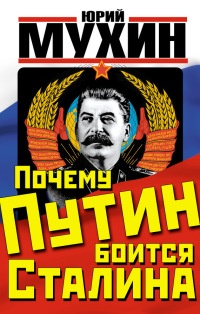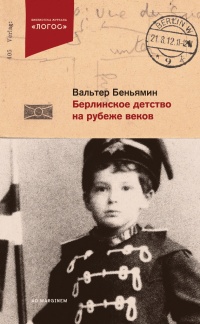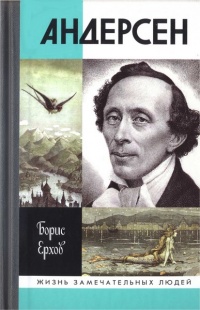Ознакомительная версия. Доступно 18 страниц из 87
Париж был для него еще и особенной, своей библиотекой, которую он знал, как слепой знает свой дом. Не сосчитать часов, которые он за эти десять лет просидел на одном и том же стуле за одним и тем же полированным столом в Национальной библиотеке, в роскошном пристанище ее знаменитого читального зала, спроектированного Анри Лабрустом[21], вольнодумцем и архитектором-лауреатом Второй империи. Его девять сводов, ажурные глазурованные плиты и чугунные колонны словно символизировали палаты совершенного разума, в сиянии созерцавшего вечность. Десять лет Беньямин работал там, читал и писал, часто в состоянии почти молитвенном, с бесконечным терпением, как будто ожидая услышать некий голос, а сверху огромными столпами лился свет, в котором исполняли свой радостный микроскопический танец миллионы пылинок.
Этот читальный зал так полюбился ему, в частности, потому, что напоминал богато орнаментированную синагогу на берлинской Ораниенбургерштрассе. Подростком он заходил туда в поисках прибежища, но не для исполнения обрядов, а чтобы посидеть и подумать. Построенная в середине девятнадцатого века, она была островком спокойствия среди хаоса его жизни, здесь, не навязывая себя, еще скромно таилось священное. Ее большой, построенный в восточном стиле купол был чудом еврейской культуры в Европе. Этот храм открытости словно провозглашал всему миру: «Как бы то ни было, а евреи в Германии – желанный народ!» Неоготический фасад, казалось, ручался за то, что Германия и иудаизм будут верны друг другу.
Ведь именно в Берлине прогуливались рука об руку в своих долгополых кашемировых пальто по ухоженным, тщательно распланированным паркам Моисей Мендельсон и Готхольд Лессинг, ведя беседы о метафизике и эстетике. И сколь многим немецкая культура обязана Гейне и Бёрне[22], Эгону Фриделю[23] и десяткам других драматургов, композиторов, поэтов и художников! Все они были евреи и в то же время немцы.
В один безрадостный день осенью 1938 года родственница Беньямина Ханна написала ему, что синагога разрушена, сожжена дотла обезумевшими националистами, неспособными допустить, что в Германии может быть место для всех. «Нам не на что больше надеяться, – писала Ханна, к великому отчаянию Беньямина, который не мог в это поверить, – совсем не на что».
Беньямин смешался с парижской толпой. Армейских машин на улицах стало больше, земля содрогалась под ними, и от этого на душе было тревожно. По Новому мосту[24], сгущая атмосферу настороженности и страха, строем шагали солдаты. Беньямин остановился, слушая, как все грохочут и грохочут их сапоги. У моста стояла и плакала пожилая женщина в черном платке, и он подошел к ней:
– Мадам, я могу вам чем-то помочь?
Она как-то странно посмотрела на него:
– Что такое?
– Может быть, вам нужна помощь?
Женщина вперила в него непонимающий взгляд, и Беньямин, приподняв шляпу, ретировался. До него наконец дошло, что он до сих пор не понимает французов, хоть и прожил в Париже больше десяти лет. Может быть, он никогда не научится понимать их.
Он бросился к стоявшему трамваю, неуклюже устремившему свои щупальца вверх над черно-белым панцирем. Оставалось пробежать всего несколько метров, но тот тронулся и унесся прочь.
– Стойте! – слабым голосом крикнул Беньямин и наклонился вперед, чтобы отдышаться.
Сердце у него вдруг как будто увеличилось до огромных размеров, яростно колотясь и вырываясь из груди, пульсирующая боль отдавала в предплечья. Рядом стояли, смеясь над ним, трое маленьких мальчишек с перепачканными худыми лицами. Один из них, со сморщенными, как гриб, щеками, показал ему язык, который, к ужасу Беньямина, оказался весь в темных пятнах. Неужели всю нацию внезапно поразила какая-то болезнь, не пощадив даже малых детей?
Недалеко, на рю де Бюси, жила Жюли Фарендо, и он решил сначала зайти к ней, а потом уж идти домой. В Париже всегда так: идешь в одну сторону, а потом вдруг обнаруживаешь, что направляешься в другую. Составить твердый план действий невозможно. Все в Париже привлекает к себе внимание, манит, влечет многообразием возможностей. Нужно обладать непоколебимо сосредоточенным умом Декарта, чтобы невозмутимо двигаться в самой гуще этого изобилия, или сердцем Бальзака, способным все вбирать в себя и возвращать без убытка. Беньямин не был ни Декартом, ни Бальзаком, зато ему изредка удавалось ухватить то, что определяет столь разных гениев. У него был необыкновенный дар проникновения в личность другого человека, редко у кого из критиков встречающийся, и он это знал. Сейчас ему нужно было время, чтобы закончить свой главный труд и выпустить сборник своих лучших эссе о литературе и культуре. Впереди еще непочатый край работы: нужно написать о Бодлере, о Брехте. Но где взять время, когда все, кажется, только и заняты тем, чтобы выкурить его из библиотеки, из Парижа?
Даже сегодня, в этой суматохе, Париж манил и обольщал, умудряясь оставаться выше войны, по ту сторону ее убожества. Это был город пассажей – ослепительного изобретения потребительской эпохи, которое больше десяти лет было предметом исследований Беньямина. Ему вспомнилось, с каким воодушевлением он начинал работать над темой пассажей, – он писал об этом Шолему. Пассажи, по его словам, были «воплощением коллективной мечты французского общества». Но мечта эта не могла принести удовлетворения. Возможно, желания и чаяния человеческого общества и нашли выражение в этой материальной роскоши, но сделано это было столь сдерживающим, ограничивающим и опосредованным способом, что результат не мог бы удовлетворить никого и никогда. Такое непроизвольное действие коллективной мечты не давало нации в целом пробудиться и найти свое наиболее полное выражение. Это делало ее легкой добычей духовных пришельцев, которые должны были растоптать ее мечты.
Ася Лацис – никого он не любил так самозабвенно, как ее, – весело говорила ему: «Мой дорогой Вальтер, идеал – это бесклассовое общество. Общество, в котором торжествует справедливость. Ты прекрасно это знаешь. Не понимаю, чего ты так волнуешься». В этом была вся она – следить, не волнуется ли он. У него было внутреннее убеждение, что экономика не должна управлять жизнью человека, отнимать ее. Ему постоянно вспоминались строки Макса Хоркхаймера: «Слепой приговор, вынесенный экономикой и заключающийся в том, что более могущественная социальная сила обрекает большую часть человечества на бессмысленное прозябание и изничтожает бесчисленные таланты и дарования, считается всеми неотвратимым и осуществляется в поведении людей».
Ознакомительная версия. Доступно 18 страниц из 87