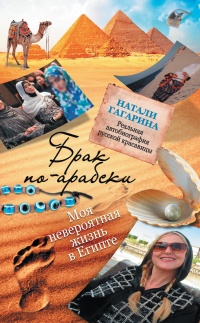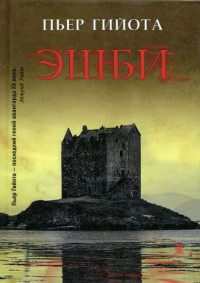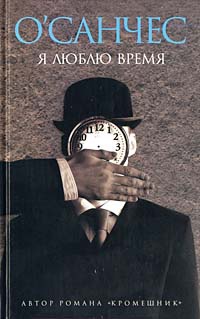ГЛАВА ПЕРВАЯ
«Du hast die schönsten Augen»
«Это случилось незадолго до германской войны, в бытность мою товарищем прокурора в городе Блинове…»
Уж верно, недели три лист бумаги с этой одинокой фразой сиротливо белеет на моем столе, сдвинутый к самому краю, чтобы не мешал чаепитиям. Чем дольше гляжу на нее, тем более корявой кажется мне злосчастная фраза и тем глубже я сомневаюсь, что в самом деле возьмусь записывать столь длинную, мрачную и путаную историю. Положим, она в немалой степени определила мою судьбу, да кому какое дело до моей судьбы? Она интересна и страшна, но с тех пор наш мир постигли потрясения, в сравнении с которыми мало что интересно и, боюсь, уже ничто не страшно.
Действительно, стоит ли пускаться в такое предприятие? Моя жизнь, по-видимому, близится к концу. Доктор Подобедов при последнем осмотре был так ненатурально игрив, до того бодро подмигивал, что, право, можно было подумать, будто мне не дотянуть и до нынешнего вечера.
За окном скучный поселок Харьковской губернии, он зовется Покатиловкой — чужое, случайное место, где мне, по всему, предстоит завершить земной путь. Но сегодня в этой Покатиловке такой яркий апрельский денек, и добрейшая Ольга Адольфовна, квартирная хозяйка, так мило мурлычет за стенкой романс о прекрасных очах «Du hast die schönsten Augen», что даже моя застарелая усталость сладко задремывает, даря мне передышку.
Буду все же писать. Это по видимости бесполезное занятие отгоняет тоску лучше всякой водки. А уж что и как писать, невелика важность. Я никому не собираюсь показывать сие сочиненье, так что за печаль, будут ли в нем склад и лад, успею ли довести рассказ до конца, способен ли кто-либо в здравом уме и твердой памяти поверить в действительность столь невероятных происшествий. Ведь даже мне самому, их участнику и свидетелю, в такой вот солнечный полдень все это начинает казаться дурным наваждением.
Иное дело ненастные вечера, не говоря уж о бессонных ночах, когда… Э, какая разница! Мне уж не прослыть лжецом, да и будь я образцом, честности или гнусным обманщиком, никому в подлунном мире нет более ни прока в моих добродетелях, ни вреда в недостатках. Разве что Ольге Адольфовне. Ведь такого трезвого, смирного, исправного в платежах жильца по нынешним временам найти не просто. Она же дама рассудительная и, надо полагать, ценит это.
Да и я от души рад, что мне досталась такая хозяйка. По утрам, когда жизнь неврастеника особенно нестерпима, встречать это ясное, приветливое лицо вместо перекошенной рожи какой-нибудь Феклы — пусть не радость, но тихое утешение. Ольга Адольфовна — «настоящая барыня», так со смесью осуждения и почтительности отзываются о ней в поселке.
«Du hast Diamanten und Perlen», — слабо доносится из кухни. Голос у хозяйки, что называется, комнатный: гудение примуса почти заглушает его. Нет, диамантов и перлов у нее, вероятно, не было. Для особы, их имевшей, она чересчур интеллигентна. Но был отец, ректор Харьковского университета Адольф Питра, был муж — известный в здешних местах хирург Трофимов, был дом, что называется, на широкую ногу. То бишь слуги, выезд, будуар и тому подобные трогательные излишества. А теперь только и есть что эта холодная, нелепая, на глазах ветшающая дача, пара голодранцев-жильцов — Тимонин во флигеле да я — и вконец отбившаяся от рук зеленоглазая дочь Муся четырнадцати лет, заводила маленькой банды местных подростков.
Ах да, еще служба! Наша с нею общая служба в крохотной инвалидной конторе, где с соизволения харьковского начальства засело пятеро бездельников, получающих скудное, но по нынешним временам все же спасительное содержание. Это нас даже несколько роднит. Оба обломки кораблекрушения, оба инвалиды на жалованье, и не так потому, что инвалиды — она-то, видимо, здоровехонька, — как благодаря тому, что товарищ Толстуев нас пока что терпит.
Ольга Адольфовна рассказывала, что ее покойный супруг, главный врач городской больницы, не выдал белым раненого буденновца Толстуева, как, однако же, и красным не выдавал попадавших в его клинику белых, петлюровцев, зеленых и прочую воюющую тварь разных цветов и оттенков, волнами набегавшую на город. Каждая новая волна растекалась по улицам и подворотням в поисках замешкавшихся предшественников. Но доктор, судя по всему, был могуч. Просто вставал на пороге и не двигался с места, пока люди с ружьями не уходили, возможно сообразив, что завтра сами могут попасть к нему на больничную койку.
Как ни поразительно, господин Трофимов уцелел. Впрочем, только затем, чтобы на исходе Гражданской войны умереть от сердечного приступа. Зато его вдова теперь числится в достославной конторе машинисткой. Да я и сам имею заслуги перед победившим режимом: некогда в Блинове я помешал засудить политически неблагонадежного Василия Толстуева по грубо сфабрикованному уголовному обвинению. Славный был юноша, как ни трудно поверить этому теперь. Но, как бы то ни было, не мое дело поносить этого большевистского бонзу с бычьей шеей и налитыми кровью глазами. Не будь его, я бы сдох с голоду и гнил бы сейчас где-нибудь в прошлогодних лопухах на городской окраине.
Впрочем, после всего, что выпало испытать, подобная мысль не кажется такой уж кошмарной. Война и революция помогают понять простую истину: совершенно безразлично, где гнить — в фамильном склепе или в овраге.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Неподражаемый Сидоров
Однако к делу. Я только сейчас понял, что дурно начал свое повествование. Должно быть, виною тому бесконечные, невыразимо тягостные официальные объяснения, которые мне пришлось давать после развязки той чудовищной драмы. Тогда, сидя в кабинете очередного облеченного властью лица, в который раз произнося затверженные, лишь отчасти правдивые фразы, я говорил, что эта история началась, когда я занялся расследованием ряда, по-видимому, связанных между собою дел, первым из которых было похищение в июле 1905 года малолетней дочери блиновского купца второй гильдии Парамонова.
В действительности все началось гораздо раньше, на целых десять лет. Толковать об этом с начальствующими персонами было бы, разумеется, чистейшим безумием. Тем не менее истина такова, и я до скончания моих дней не забуду того декабрьского утра.
«Рокового утра», — сказал бы, наверное, мой друг Алеша Сидоров, в ту пору чрезвычайно склонный к романтическим выражениям. Тут же он скроил бы ироническую мину, давая понять, сколь он сам, неподражаемый Алексей Сидоров, умнее того, что говорит. Эта игра была рассчитана на проницательность немногих избранных душ, и я, несомненно, был из их числа.