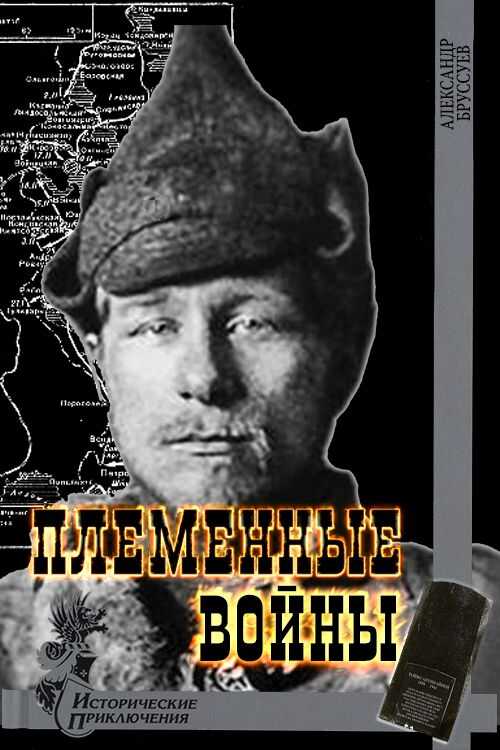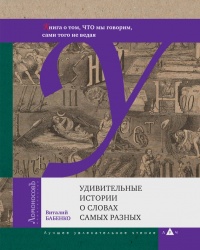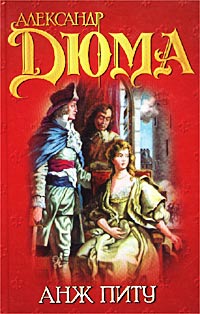Книга Революция - Александр Михайлович Бруссуев

- Жанр: Историческая проза / Приключение
- Автор: Александр Михайлович Бруссуев
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Первая книга о Тойво Антикайнене, финском герое времен революции. Моя первая книга о нем, и первая книга о нем в современной прозе. Тойво Антикайнен — выдающийся деятель международного коммунистического движения, финский коммунист. Активно боролся за установление Советской власти в России, желал организовать Социалистическую Революцию у себя на родине — в Финляндии.
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Революция - Александр Михайлович Бруссуев», после закрытия браузера.