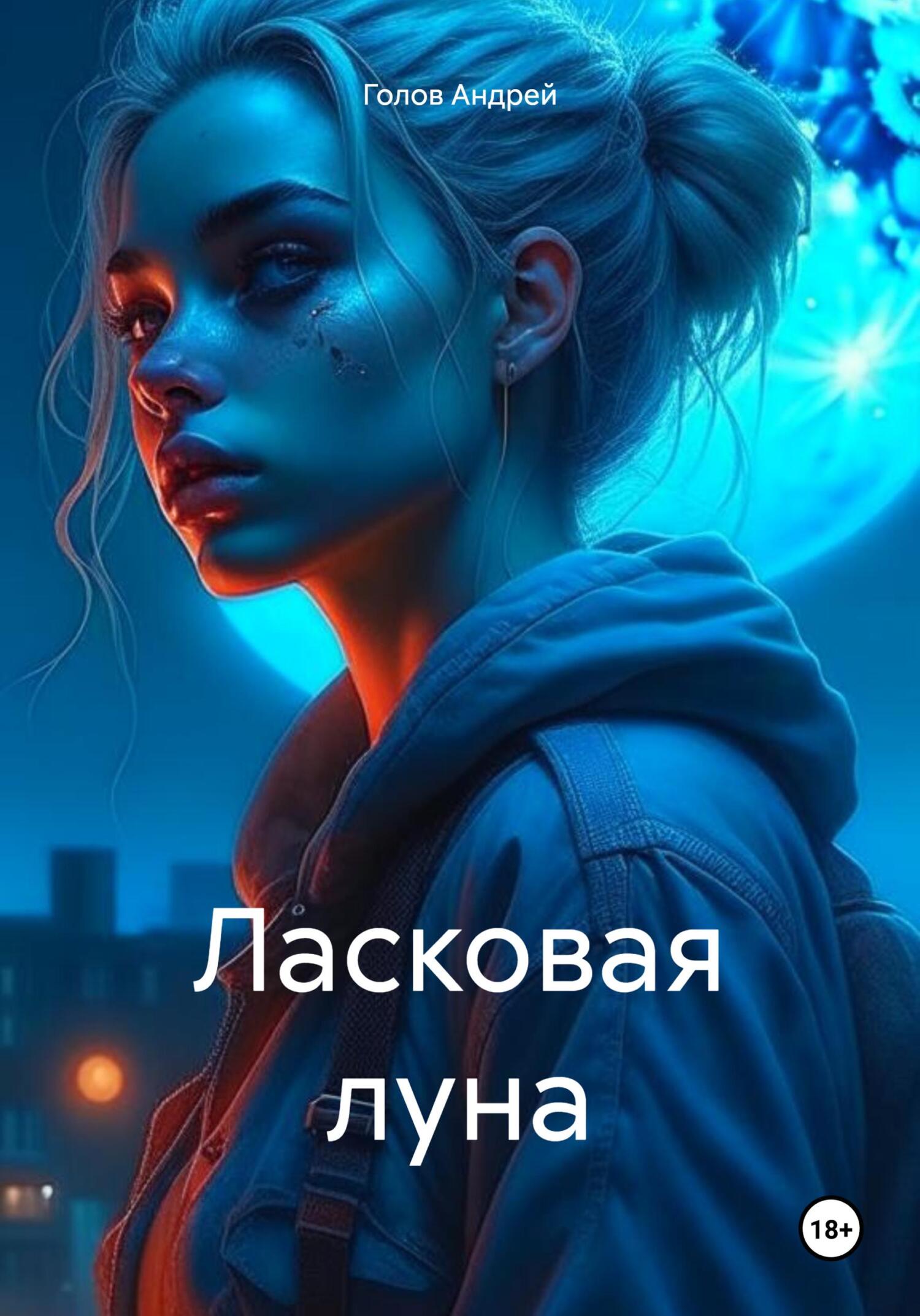Книга Антихристово семя - Андрей Сенников

- Жанр: Книги / Ужасы и мистика
- Автор: Андрей Сенников
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
«В крепости Петра и Павла, что на Заячьем острову, младший унтер лейб-гвардии Семёновского полка Василий Рычков очутился по трём причинам: зелено вино, злая насмешливость и гвардейский апломб – либо в стремя ногой, либо в пень головой». Угодив в лапы розыскной канцелярии майора Ушакова, унтер Рычков вынужден отправиться в далёкую от столицы Соль Камскую с наказом: изведать, кто из первых государевых наместников и с каким умыслом потворствует ереси таинственного старца Нектария из глухого скита в верховьях Колвы-реки. Знать бы ветерану Нарвы и Полтавы, куда заведёт его стезя асессора канцелярии Тайных Государевых дел, то, верно, предпочёл бы в работные, на Демидовские рудники.
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Антихристово семя - Андрей Сенников», после закрытия браузера.