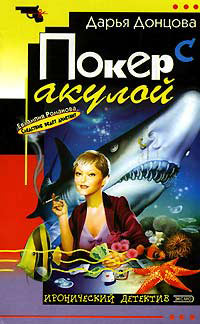Книга Последняя инстанция - Владимир Анатольевич Добровольский
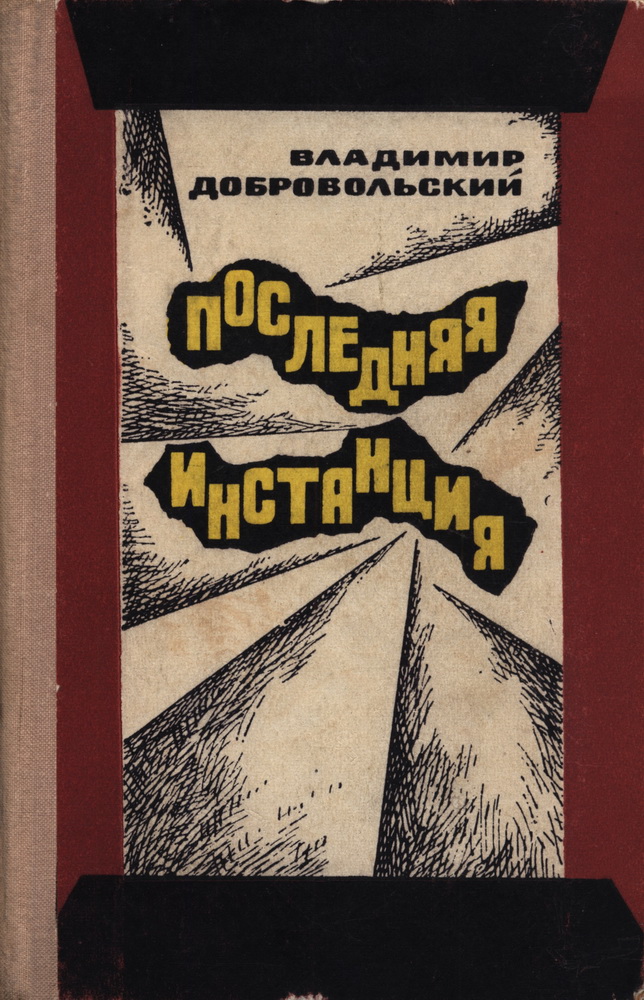
- Жанр: Детективы / Классика
- Автор: Владимир Анатольевич Добровольский
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Владимир Добровольский — автор широко известных советскому читателю книг: «Трое в серых шинелях», «Август, падают звезды» и др. Главные персонажи новой повести «Последняя инстанция» — следователи, работники уголовного розыска. В повести показана сложная работа людей, призванных стоять на страже социалистической законности. С честью выходят работники следствия из запутанных, сложных ситуаций и по отдельным штрихам, случайным эпизодам, еле заметным следам добиваются раскрытия совершенного преступления. Интересна и поучительна работа молодого капитана милиции Бориса Ильича Кручинина, работа, воодушевленная и озаренная верностью своему общественному долгу.
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Последняя инстанция - Владимир Анатольевич Добровольский», после закрытия браузера.