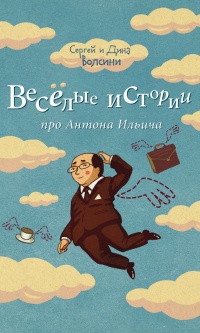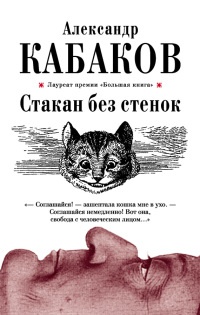Ознакомительная версия. Доступно 25 страниц из 124
Это кто же, это кто же
Голубую зелень лета
Бесконечно проскочил?
С годами ночные голоса звучали всё глуше, потом утихли совсем. Но днём не изменилось ничего. «Червь его сердце больное сосёт», — бормотал Антон, чистя зубы; «И с тяжким грохотом подходит к изголовью», — скандировал, подымая гантели; опрокидывая на голову один за другим пять тазов холодной воды по Порфирию Иванову, читал, отплёвываясь: «И облив себя водой, стал стучаться под избой».
На обсуждении в своём секторе статьи директора смежного института он неожиданно для всех и себя самого произнёс обличительную речь, что работу нужно завернуть как слабую, а что он — директор, так есть же высший суд, суд потомков, и надо, чтобы нам перед ним не было стыдно. А дело было в том, что из всех звучащих по утрам в голове Антона стихов в тот день выделилось и повторялось «Но есть, есть Божий суд, наперсники разврата»; эта мощная волна его и несла.
Однажды весной за переброской навоза Гройдо сказал:
— Когда вы были мальчиком, я думал, что из вас выйдет поэт. Да и потом, когда прочёл ваши студенческие стихи о Гильотене.
— Стихи были так себе.
— Не скажите. Про нож гильотины — «его равномерная сила правдивей, чем взмах палача» — недурно. А про мёртвых дождевых червей — ещё лучше: «Персть его безжизненно-нелепа, вялая покинутость чехла». Но дело даже не в том, а — вы с детства жили в мире звуков сладких.
В эпоху семиотики на одной из летних школ известный структуралист всем раздавал определения: «человек дороги», «человек норы».
— А я? — поинтересовался Антон.
— Хоть вы и историк, но я, прожив с вами в этой комнате три дня, уверенно номинировал бы вас: человек звука, или — лучше — мычания. Или — чтобы понятнее — человек глоссы.
И Антон решился. В десять утра в понедельник он стоял перед кабинетом декана филфака профессора Михаила Романовича Симбирцева. Про него говорили, что в своё время он донёс на своего учителя Франца Петровича Шиллера и занял освободившуюся кафедру зарубежной литературы. Декан как лектор многим нравился — темпераментом, тем, что читал без всяких конспектов. Правда, Алик Мацкевич как-то рассказал, что Симбирцев целую лекцию посвятил Эжену Потье — столько же, сколько Бодлеру, Верлену и Малларме вместе. Антон поинтересовался, что ещё, кроме «Интернационала», написал Потье. Выяснилось, что ничего. «А о чём же ваш профессор говорил два часа?»
— «О рабочем движении во Франции».
В кабинете декана сидел завкафедрой фольклора профессор Титеров, который Антона знал, так как тот в перерывах между первым и вторым часом его лекций подходил к нему с вопросами то о частушках, то о вариантах текста жестоких романсов. Видимо, его накрутила Эрна Васильевна, потому что он сказал, что по склонностям и вследствие некоторых особенностей биографии студент Стремоухов прирождённый фольклорист, ту вольную частушку, которая вам, Михаил Романович, так понравилась, записал как раз этот молодой человек.
Было определено: Антон после весенней сессии второго курса у себя на истфаке переводится на первый курс филологического факультета с зачётом некоторых дисциплин, как-то: политэкономии, истории СССР, физкультуры и некоторых других.
Вопрос решился в пять минут. А в следующие пять всё так же просто и быстро рухнуло.
Опытная секретарша декана спросила, знает ли Антон, что по закону студент может получать государственное пособие в виде стипендии только пять лет. На основании чего на первых двух курсах нового факультета стипендию он получать не будет.
Ошарашенный Антон забормотал, что знает другие случаи, у них на курсе… Один студент учился год на экономическом факультете… получает стипендию, как все. Да, это
положение часто обходят, сказала секретарша. Бровями показала: но не на нашем факультете.
На деньги, присылаемые родителями, было не прожить. В следующие десять минут он уже шёл мимо Герцена и Огарёва на свой факультет, предупредить, чтоб не искали его личное дело. Попытка изменения жизни вместе с последующим возвращением на круги своя заняла менее получаса.
Удар оказался силён из-за неожиданности: такой причины Антон не предвидел. От расстройства он даже заказал — единственный раз за все годы — телефонный разговор с Чебачинском, хотя логичней это следовало сделать раньше. Мама сказала, что он, конечно, всегда интересовался литературой, но больше всего любил исторические романы.
— Какая филология? — кричал в трубку отец. — Ты историк, историк! Эти твои тетрадки, картотеки! А газеты прошлого века?
Сначала была тетрадка «Самые сильные и необыкновенное» — туда Антон записывал сперва то, что рассказывал дед: кто из животных скорей всех бегает, какие птицы выше всех летают, а рыбы глубже ныряют, какое дерево самое высокое, сколько миллионов книг в библиотеке Британского музея. Потом — что начитал сам: негр в огромном нью-йоркском универмаге служил справочной книгой — помнил, на каком этаже и в каком отделе что продаётся и сколько стоит; французский моряк без водолазного костюма нырнул на глубину 30 м — и другое похожее.
Любимой была страничка «Самый сильный человек всех времён и народов». Последние четыре слова Антон вырезал из газеты «Правда», а предыдущие пририсовал очень схоже сам. Дальше шла запись про монаха Никодима, который на спине внёс на звонницу двадцатипудовый колокол. Но в историческом романе «Микула Селянинович» Антон прочёл, как Микула, выручая монастырскую братию, вынес за ворота обители бугая, в неё забредшего и там издохшего. Тётя Лариса сказала, что обычно производитель весит пудов двадцать пять; древнерусский бугай, решил Антон, наверняка поболе. Запись про монаха пришлось густо зачеркать. Однако и носителя бугая потребовалось замарывать: на путиловско-кировском заводе рабочий подымал слитки в полтонны и в заводском пропуске в графе «профессия» у него значилось: силач. Если б Антону сказали, что абсолютных рекордов на все времена не бывает, он бы очень огорчился.
Эту тетрадку сменила другая — «История вещей». В неё заносилось: когда в России появился самовар, спички (ещё при жизни Пушкина), керосиновая лампа, трамвай, кто и когда изобрёл застёжку «молния», жевательную резинку; что самый гениально защищенный патент сочинили в фирме «Зингер»: «игла с отверстием на колющем конце».
И какие бы швейные агрегаты ни придумывали, эту формулировку обойти никто не сумел, и весь мир до сих пор отчисляет фирме деньги. По совету отца он заменил тетрадку на картотеку и пополнял её и в университете; правда, узнав о существовании «Брокгауза — Ефрона», — уже выборочно, только тем, чего во времена этих великих людей ещё не изобрели или про что они просто забыли.
Газеты прошлого и начала текущего века Антон начал просматривать уже на первом курсе — без всякого плана, всплошную. Брал подшивку «Воронежского телеграфа», «Тифлисского листка», «Забайкальской мысли», «Каспия», столичной «Гласности», «Кобелякского слова», «Якутских вопросов» и листал. Впрочем, на специальные газеты был особый список: «Coxa-кормилица», «Индустрия», «Жизнь приказчика», «Вестник еврейской эмиграции и колонизации», «Студент-коммерсант», «Голос тайги», «Трезвый понедельник», «Казарма». Возникала даже мысль просмотреть все основные русские газеты второй половины века. К тому времени, когда стало ясно, что такой безумной идеей возможно было одушевиться лишь в самозабвеньи юности (триста названий, многие газеты выходили 20, 30, 50 лет, ежедневные имели двенадцать корешков в год), он успел просмотреть больше двухсот годовых подшивок за разные годы. Делал выписки — тоже без определённой системы, всего интересного. Читал
Ознакомительная версия. Доступно 25 страниц из 124