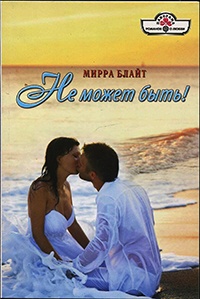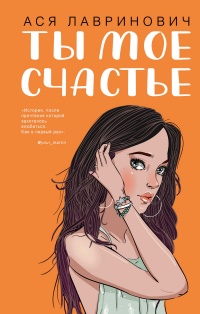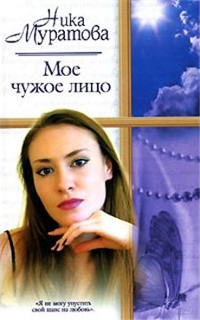— О чем ты думаешь?
Отвечает, что у него болит зуб и все мысли только о нем, коренном.
Свет в больнице тусклый, как на кладбище. Редкие лампы, между ними — длинные участки темноты, обрушенные лестницы. Расшатанный пол под ногами, кажется, положен прямо на грязь. С потолка свешивается кабель, пластиковая панель задевает мне голову. Почти все отделения разрушены, кровати понаставлены вдоль коридоров. Тела людей в темноте похожи на мешки с песком. Пытаюсь не смотреть на ноги, торчащие из-под одеял, — трубы, черные от крови. Иду вслед за Гойко по этому туннелю. Фигуры движутся нам навстречу, толкают. Кто-то кричит. День едва наступил, но уже погрузился в грязные сумерки. Военный в форме хромает, опираясь на женщину в голубом медицинском халате. Старик с ногой, заканчивающейся у колена, с повязкой на голове, сквозь которую просочилась кровь, сидит на каталке. Гойко протягивает мне руку, помогая перескочить через проломанные ступени, сквозь эти дыры просматриваются нижние этажи. Там, где рожают, — тихо, никто не жалуется. Женщина оперлась на свой раздутый живот, как на чемодан, точно усталая туристка.
Диего сидит на последней ступени лестничного пролета без перил.
Это не просто рассвет. Кажется, что мы погребены в подводной шахте и медленно передвигаемся в воде. Гойко уходит, идет искать хоть кого-нибудь, кто вырвет его проклятый зуб, и, если не найдет никого, кричит, что сам обо всем позаботится, ему достаточно щипцов. Увидев меня, Диего встает. Я ныряю в его запах. Последний раз я видела его три дня назад, с тех пор он не ночевал дома.
— Как дела?
— Нормально, все нормально.
Несколько слов, и опять тишина, только пар дыхания в отделении, похожем на склад металлолома. Помещение не отапливается, так что кажется, будто мы находимся под открытым небом. Когда-нибудь я расскажу Пьетро об этом запахе. Об усталости и холоде. О вздрагивающей шее его отца, напоминающей шею гуся, перед тем как ее свернут.
— Скажи мне что-нибудь.
— Что?
— Все равно что.
«Я люблю тебя», — может, это он хочет услышать? Сидим вдвоем на одной ступеньке, он положил голову мне на колени.
— Я принесла деньги, — сказала я. — Они здесь… — трогаю рюкзак.
Я повесила его не сзади, на спину, а спереди, под пуховик. Боялась, что его заберут, когда мы будем проезжать блокпост. И только сейчас понимаю, что с этим рюкзаком я похожа на беременную. Диего улыбается своей прежней горькой улыбкой. Потому что вся наша жизнь спрятана в этом денежном животе, наше счастье и наша грусть.
Это я должна была бы рассказать Пьетро? «Понимаешь, твоя мама забеременела пятьюдесятью тысячами марок мелкими купюрами, они в тяжелом мешке лежали на ее утробе, под грудью. — И добавить: — Только посмотри, какие мы были щедрые — я и фотограф, дедушка продал дом на море, чтобы помочь нам». По тем временам это была огромная сумма, особенно если учитывать, что многие люди в Сараеве покупали детей за гроши.
Укачиваю свой живот из денег, крепко прижимаю к себе. Обнимаю Диего, но этот груз между нами не дает нам сблизиться.
Аска не садится, ходит туда-сюда перед дверями туалетов. Иногда останавливается, опираясь на стену между двумя раковинами. Я подхожу. Всего-то несколько шагов в этой подводной шахте.
Сильная вонь неработающей канализации, которую даже запах хлорки не перебивает. Наше дыхание — белый пар. Мы погребены под коркой льда внутри арктического озера. Впервые все втроем после долгого времени.
Это я должна рассказать Пьетро? Рассказать о том тюремном запахе, о нашей беспомощности. Рассказать ему об этой встрече.
Трубачка, непослушная овечка Андрича, бунтовщица, танцующая перед волком, смотрит на меня, не меняясь в лице, будто не знает, кто я такая.
И все же когда-то, сто лет назад, до осады, поглотившей ее город, мы были подругами. Как-то раз мы танцевали, обнявшись, перед афишей Дженис Джоплин, висевшей на стене, и она, моложе и беднее меня, вселила в меня уверенность, расточая неистовый блеск неверной судьбы музыканта, а я все твердила ей: «Я беднее, намного беднее тебя». Волосы не такие яркие, как прежде, собраны в хвост резинкой. Лицо в сером свете кажется лишенным всяких эмоций. Потом я опускаю глаза.
Она в халате и расстегнутой дубленке, которую Диего купил ей на рынке Маркале. Я смотрю на выпяченный живот, кажущийся огромным при такой худобе. Положила руки на поясницу, головой прислонилась к стене. Диего вроде рядом, а вроде нет, оставил нас одних. Большой живот Аски неподвижен.
— Можно потрогать?
Не узнаю собственного голоса, который доносится словно из подземелья. Аска кивает, не глядя на меня. Убирает руки от тела, будто для того, чтобы уступить мне место. И я протягиваю ладонь.
Это я должна буду рассказать Пьетро когда-нибудь, перед тем как умру, должна буду рассказать о том, как моя рука отделилась от меня и потянулась к нему.
Негнущиеся пальцы прикасаются неуверенно, как железная лапа, протянувшаяся из трюма космического корабля, совершившего посадку на Луну.
Я — никто, захватчица, стальная птица, садящаяся на чужую планету.
Потом все-таки понимаю, что надо делать, это получается само собой, это как раздеться, перед тем как войти в воду, обнажиться. Собачий холод, но моя рука словно приклеилась к горячему снегу. Я здесь и больше никуда отсюда не уйду.
Глубоко дышу.
Здесь есть только одна вода — внутренние околоплодные воды.
— Деньги принесла?
Наклоняюсь всем телом, указывая на рюкзак спереди, на округлость под курткой. Жалкий денежный живот.
— Dobra, — говорит Аска, — молодец.
Потом чувствую толчок под моей рукой, положенной на ее живот. Вот она, голова, бьющаяся, как рыба о кромку льда.
Я вскрикиваю. Почувствовав удар, вскрикиваю.
Что это было? Ступня? Коленка? Кулак?
Ничего не вижу, кроме синего грязного неба, подступает тошнота… знаю, что падаю в обморок, потому что давно не ела, потому что этот толчок проник в мое пустое лоно, в пространство молчащей плоти, спрятанной между лобковыми костями, которые на скелетах обычно плоские и белые…
Я похожа на рваный мешок с песком, чувствую, как шероховатые песчинки падают, проходя через все мое тело. Сейчас песок весь ссыпался в ноги, голова опустела, свет гаснет.
Очнулась на руках у Гойко, его грязные волосы лезут мне в глаза. Он толкает мне под нос бутылку:
— Вдохни, красавица, понюхай-ка этого чудесного зелья.
Водка из Черногории легендарного завода «Тринадцатое июля», настоящий раритет. Они, наверное, уже изрядно выпили, потому что у Диего горячие руки, несмотря на холод. Гойко пребывает в эйфории, ему вырвали зуб. Открыв рот, показывает черную дыру, смеется, выставляя напоказ розовые от крови зубы.