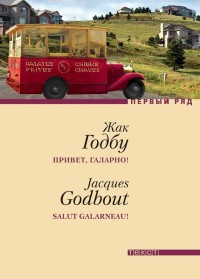— Ну, это невозможно.
— В самом деле? Почему?
— Потому что мое «Я» имеет мало общего с тем, кого ты называешь «Вы». Ты считаешь меня сердитым, а я себя — покладистым. Ты считаешь меня пустомелей, а я себя — мудрецом.
В ответ Фальконе оставляет работу и начинает вытирать руки о тряпку.
— В таком случае сами и ваяйте свой чертов бюст.
— И я бы сделал это куда лучше, чем ты, старина. По крайней мере, я знаю, кто я такой.
— Ну и кто же вы?
— Я умен и остроумен. И я — мужчина, а не вон та женоподобная старая кокетка, которую вы слепили. Что скажут мои внуки, когда увидят это? Эй, Потомки! Я шлю вам послание через века и атмосферы: не верьте, это не я.
— Шлите. — Фальконе упрямо качает головой. — Но только вон та штука, та, что покамест прикрыта парусиной, станет образом Петра Великого, и конь его — образом Коня. Как вы выглядите на самом деле, не принимается в расчет, важно лишь, что я из вас вылеплю. И приношу свои соболезнования, но ваши внуки поверят моему бюсту, а не вам. В памяти Потомства сохранится не то, что вы привыкли видеть в зеркале каждое утро, а то, что сотворит из вас художник, скульптор, гений. Только это останется в грядущих веках.
— Но для тебя же грядущее — пустой звук. Ты не веришь в Потомство.
— Я не верю, что можно строить свою жизнь с оглядкой на будущие поколения.
— Но верите в бюсты и статуи?
— Это дает приличный заработок.
— Значит, я на веки вечные осужден оставаться этой… пародией на философа? Этим ухмыляющимся паяцем? Он ни капли не похож на меня.
— Так какой же вы? — смеется Мари-Анн.
— Он? Да он первый на целом свете красавец! — огрызается Этьен Морис. — Помесь Аполлона Бельведерского и Сенеки. Только поносатей.
Но наш герой игнорирует шпильку скульптора.
— Ты сама знаешь, милая, — отвечает он своей любимице М.-А. — Я меняюсь по сто раз на дню. Какое у меня лицо, зависит от того, что я чувствую, о чем думаю.
— Замечательно! Но тогда вам нужно сто бюстов! — восклицает скульптор.
— Создание образа, парадокс воплощения, это все я предоставляю тебе, дружище. Но по сути, чтобы воздать мне по справедливости, вам действительно пришлось бы вылепить сотни портретов.
— Вам нужна не справедливость, а лесть, — пожимает плечами скульптор. — Вам дела нет до этого человека, которого я создал вместе с его планами, надеждами, со всем, что ему присуще.
— Правда, ты его создал. И что, мне тебе за это спасибо сказать? — И Философ поворачивается к Мари-Анн. — Не обращай на него внимания. Давай вместе поразмыслим — какой же я на самом деле? Мне кажется, я спокойный и мечтательный и в то же время — нежный и страстный. У меня яркие, живые глаза, широкий лоб, голова как у римского оратора.
— У Сенеки.
— Я горяч и порывист по натуре, как те простодушные духи Золотого века…
— Мраморный фавн…
— Да, я мраморный фавн. Естественные инстинкты управляют телом, дух подчиняется разуму. Плоть прекрасна, но искусство не должно забывать и об истинных сокровищах, о богатстве внутреннего мира.
— Ну конечно, — вмешивается Э. М., — о том единственном, что недоступно зрению.
— Ты прав. Вот поэтому я как философ ношу маску, которая может обмануть любого, но не настоящего художника. Мысли мои стремительны, потому и выражение лица меняется ежесекундно. Откровенно говоря, порой мне кажется, что я до сих пор не жил по-настоящему, что все еще впереди. Что когда-нибудь на днях я измыслю что-нибудь столь блестящее и потрясающее, что обессмертит мое имя.
— И когда же?
— Откуда мне знать? Может быть, завтра. Кто знает, на что я способен. Мне шестьдесят, а я еще не израсходовал и четверти своих возможностей.
— Не желаете ли быть запечатленным сейчас таким, каким станете в будущем? Скажем, лет через десять?
— Почему бы и нет? Но взгляни, что ты сделал, Фальконе. У тебя я похож на какого-то жирного царедворца, а не на философа. Какого-то ушастого генерала. Может, мне еще и честь отдать?
— Отдайте. — Фальконе яростно трет тряпкой грязные руки. — Мсье, вы невыносимы.
— Невыносим?
— Вы были невыносимы всегда. В Париже вы были несносны. Во чреве матери — нестерпимы. Теперь вы в тысячу раз невыносимей. Вы абсолютно не понимаете искусство.
— А вы, мсье, не способны разгадать тайну человеческого лица.
— Не могу?
— Не можете. Искусство — это не просто искусственная конструкция.
— Откуда вам знать? Вы никогда не пробовали создать подобную конструкцию.
— Я не творец, я — наблюдатель, я философски осмысляю искусство.
— То есть вы — критик.
— Да. Я — сознание искусства, его исследователь, вот кто я.
— О да, в Париже вы ходите по салонам и пишете о них статейки. И распространяете свои высокомерные мысли по всей Европе. Вы подчиняете и подавляете художников, а они льстят и аплодируют вам. Но в картинах, о которых пишете, вы не понимаете ничего. Вы стоите перед ними, вы снимаете шляпу, поднимаете за них бокал с вином и просите их понять вас.
Наш герой огорчен и озадачен.
— Да, я критик. И вспомни, что, распространяя свои высокомерные заметки по всей Европе, я превозносил тебя до небес. Без моих статей ты никогда не увидел бы Россию.
Фальконе смеется.
— Вот вы о чем! Так знайте, что это была величайшая ошибка в моей жизни. Может, вы этого и добивались, а может, так получилось случайно. Но только в результате я в полном дерьме, среди варваров и варварства, а вы собираете дань уважения. Где бы вы ни оказались — везде одно и то же. Вы хотите всегда быть maître.[58]Всегда — советы, инструкции всем и каждому. Вы во всем разбираетесь лучше всех. Просто потому, что вы — автор «Энциклопедии».
— Истинно так. Строителю нужны сноровка и навыки, художнику — талант. Но я философ, мое дело — разбираться и понимать.
— К примеру, церковь Суффло в Париже, — издевательски ухмыляется Фальконе. — Я слышал, что купол он проектировал, руководствуясь вашими советами.
— Конечно.
— А кто будет виноват, если купол вдруг обвалится, вы или Суффло?
— А кто прославится, если он устоит?
— С меня хватит! Счастливо оставаться! — Фальконе вдруг вскакивает и бросается к выходу из мастерской.
Наш герой смотрел вслед скульптору, на его лице, непостижимом, неуловимом, подвижном, написано искреннее удивление.
— Я что-то не то сказал? — недоумевает он, поворачиваясь к Мари-Анн.