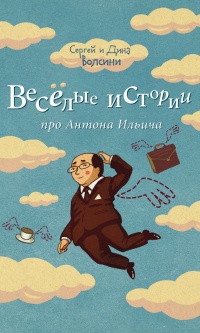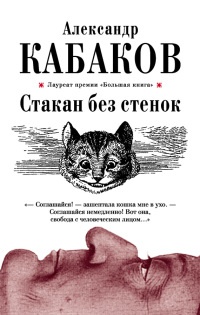Ознакомительная версия. Доступно 25 страниц из 124
— Семь!
— Десять!
— Две недели!
Юрик Ганецкий, во всём стремившийся выделиться из массы, специальным голосом № 8 (№ 1 был для занятий, № 2 — для официальных бесед, № 3 — для женщин вообще, а № 4, теноровый, — для любовниц и т. д.), предназначавшимся «для многолюдных собраний и митингов», пробасил:
— Три недели!
Мутейко, подождав, когда стихнет шум, сказал скромно, что он голодал ровно сорок дней. Сообщение было встречено смехом и аплодисментами. После этого на факультете, а потом и не только, стала популярной известная песенка:
Бывали дни весёлые,
Я сорок дней не ел.
Не то чтоб было нечего,
А просто не хотел.
Антону лекция Мутейки понравилась, не идеей тотального выздоровления (он никогда не болел), но перспективами большой экономии. В букинистическом на Арбате он присмотрел шеститомник «Истории государства Российского», который стоял уже неделю и мог уйти. В отличие от Тарасенкова, Ципельзона, Смирнова-Сокольского и других собирателей, которых, по их рассказам, книги ждали месяцами, Антону продавцы почему-то книг не оставляли и в задние комнаты магазинов его не приглашали. Месячный заработок на опытах в институте психологии покрывал только треть стоимости Карамзина; всё устраивалось, если добавить месячную стипендию целиком.
С понедельника Антон перестал есть. Мутейко обещал, что чувство голода притупится через три-четыре дня. Этого отчего-то не произошло. Были и ещё необычности. В кустарном, на папиросной бумаге переводе Брэга говорилось, что на седьмой день может возникнуть слабость, и тогда надо лежать в тёмной комнате.
Отдельной тёмной комнаты у Антона не было, но и слабости тоже. Напротив, он испытывал необыкновенную бодрость: просыпался в шесть утра, перестал дремать на лекциях (какой сон с голодухи, говорил Морячок), в голове стоял лёгкий весёлый звон, мысли являлись всё больше возвышенные. Вспоминались отцы пустынники, впрочем также и жёны непорочны. Дотянуть до покупки Карамзина всё же не удалось: на тринадцатый день голодовку пришлось прекратить.
Русскую часть обитателей комнаты № 9 объединяло счастливое недоумение, от которого они не избавились до выпускного вечера, — как это им удалось попасть в Московский университет? Антон с седьмого класса был уверен, что будет учиться только в нём, но помалкивал, потому что Филин и так назвал его выскочкой за то, что он подходил к профессорам в перерывах и задавал вопросы, а также ходил на лекции на старшие курсы.
А ходить ещё было к кому. Читал академик Сказкин. С восторгом узнал Антон, что иногда ещё делает доклады академик Тарле, книга которого «Наполеон» сыздетства была у него настольной. Его имя окружалось легендами. Сам Тарле будто бы говорил, что прочёл всё, написанное о Наполеоне на главных европейских языках (Шереметьев не верил: жизни не хватило б). О «Наполеоне» Сталин сказал: это, конечно, не марксистская книга, но лучшая книга по истории, какую я когда-либо читал. Идеологи попали в сложное положение. По первой части высказывания было ясно, что делать. Но существовала и вторая! Академик остался как бы не запрещённым, но и не разрешённым вполне. Рассказывали ещё, что именно Тарле подал мысль Сталину на параде Победы бросать фашистские знамёна к подножью мавзолея — по примеру римских полководцев, устраивавших такие триумфы после побед над варварами. У самого Сталина будто бы была другая идея — в начале парада забить камнями уже доставленных в Москву русских, воевавших в немецкой армии.
В лекциях Зайончковского по внутренней политике России была настоящая история, без марксизма, — только иногда Пётр Андреич скороговоркой проборматывал какую-нибудь цитату из Ленина. Антона он невероятно смущал тем, что, провожая его в коридоре своей квартиры, подавал ему пальто.
Старший преподаватель Тотлебен (его готовую диссертацию ещё до войны сняли с защиты за мелкость темы) читал спецкурс о российских культурных гнёздах, которых, оказывается, было множество — самарское, казанское, иркутское, тифлисское, самаркандское, минское… Каждое занималось статистикой, изучало локальную историю, этнографию, местные наречия и фольклор, имело прекрасно поставленную газету, не уступавшую столичным. Материал этот — золотое дно! — совершенно не изучен.
Но больше всего Антону нравились занятия — это смущало, — которые проходили не на истфаке, а у филологов, в семинаре по фольклору, где он сидел вольнослушателем.
Семинаром руководила Эрна Васильевна Померанцева, ученица братьев Соколовых, ездившая с ними в их знаменитые экспедиции. Её главный принцип был — дать студентам представление о живом звучании народной поэзии. Слушали переписанные с восковых валиков голоса известных сказителей, граммофонные пластинки с записями народных певиц.
Когда на второй съезд писателей приехала известная северная сказительница Маремьяна Романовна Голубкова, через три дня она уже сказывала на семинаре. Потом Антона командировали показать ей Москву, она захотела посмотреть Сокольники, и Антон поражался её искренней вере в то, что на этом месте действительно когда-то жил Сокольник. Очень порадовала былинница будничным упоминаньем о том, во что верил молодой историк и за что над ним смеялись другие молодые историки: как богатыри подымали палицы в сорок пуд. «У нас и ноне один такой ходит: нос лодьи с рыбой подымат, столь пуд и будет». Рассказывала своим редкостным языком о поморской жизни. Потом Антон прочёл её книгу в записи какого-то журналиста и не узнал ни жизни, ни языка.
Самое сильное впечатление на Антона произвёл сказитель — тоже поморский — Борис Шергин.
Мы ожидали бородатого вальяжного старца, но в аудиторию стремительно вошёл чуть седоватый, чисто выбритый, необычайно подвижной человек в сером коверкотовом костюме. Сначала рассказал о своей жизни, которая вся прошла на море, чего мы почему- то не ожидали: «Дула пособная поветерь. Лодья наша добежала до Новой Земли в полторы сутки». Рассказ пересыпал незнаемыми поговорками: «Пола мокра, так брюхо сыто».
Былины пел он замечательно. Сразу же выяснилось, что в его словаре оппозиция приличное — неприличное начисто отсутствует: непечатные слова он употреблял так же свободно-спокойно, как все прочие. Главная героиня исторической песни о Марине Мнишек именовалась исключительно как Маринка-блядь, причём даже в тех случаях, когда к ней обращался её возлюбленный Дмитрий Самозванец: «Моя коханая Маринка- блядь». Московские девочки краснели и опускали глаза; сказитель же не стеснялся нисколько, руководительница семинара — тоже: из песни слова не выкинешь.
После этого Антон рискнул прочесть Эрне Васильевне частушку, услышанную от старика Кувычки, которую числил среди образцов настоящей поэзии (одно слово он всё же произнести не решился):
По реке плывут две утки,
Серенькие, крякают.
Мою милую. ут —
Только серьги брякают.
Поколебавшись, прочёл ещё одну частушку, предвоенную, которую считал очень показательной в политическом отношении:
Ознакомительная версия. Доступно 25 страниц из 124