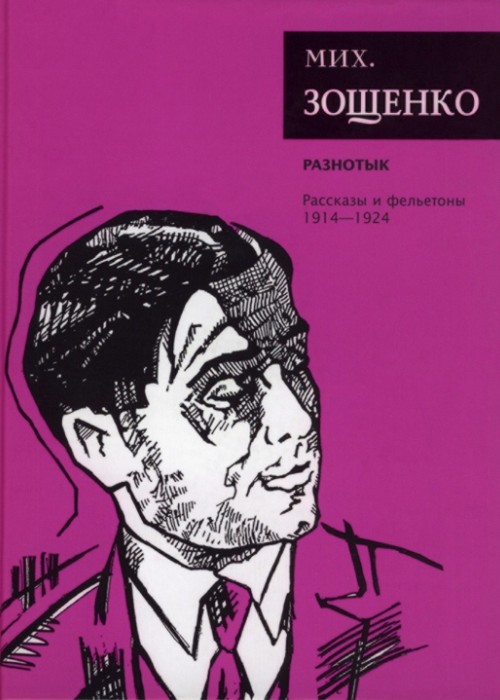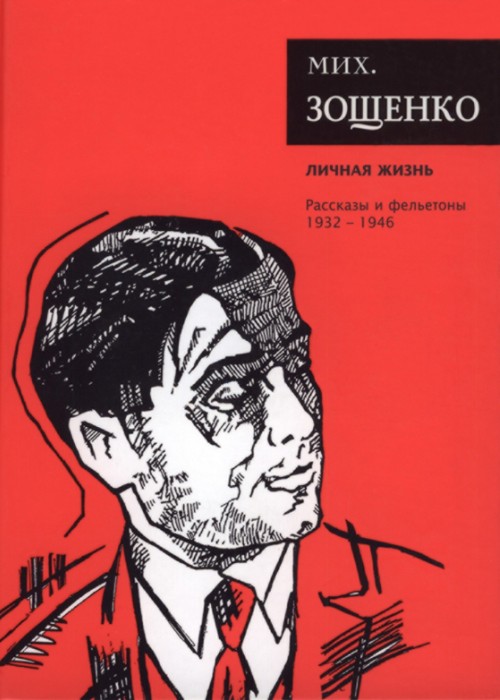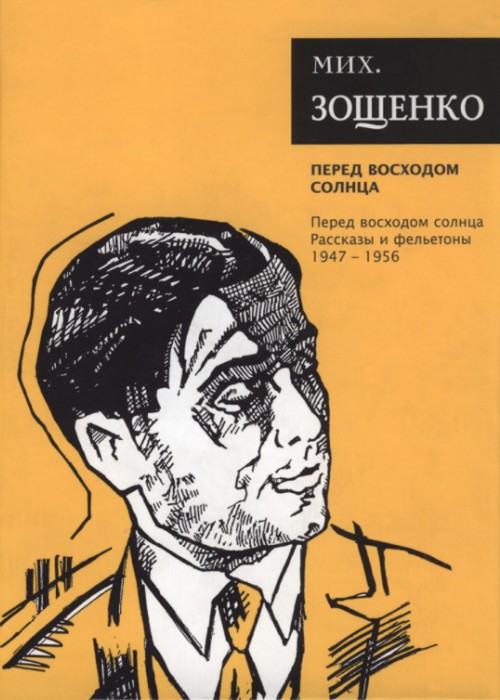этакий!»
Очень на него хор действовал. Жалел только старик, что не дамский это монастырь.
— Жаль, — говорил, — что не дамский, а то я очень обожаю самое тонкое пение сопран.
Так вот был Владимир Иванович самый почетный гость. А от этого все и случилось.
Продавалось рядом с монастырем имение. Имение дворянское. «Дубки». Имение удобное — земли рядом. Вот игумен[197] и разгорелся на него. Монахи тоже.
Стал игумен вместе с экономом мозгами раскидывать — как бы им подобрать к своим рукам. Да никак. Хоть и денег тьма, да купить нельзя. По закону не показано. По закону мог монастырь землю получить только в дар.
Вот игумен и придумал механику. Придумал он устроить это дело через Владимир Иваныча. Посетитель почтенный, седой — купит и подарит после. Только и делов.
Ну, так и сделали.
А купчик долго отнекивался.
— Нет, — говорил, — куда мне! От мирских дел я давно отошел, мозги у меня не на то самое направлены, а на очищение и на раскаяние — не могу, простите.
Но уломали. Мраморную доску обещали приклепать на стене с заглавием купчика. Согласился купчик.
И вот дали ему семьдесят тысяч рублей золотом, отслужили молебствие с водосвятием и отправили покупать.
Покупал он долго. Неделю. И приехал назад в монастырь вспотевший и вроде как не в себе. Приехал утром. С экипажа не слез, к игумену не пошел, а велел только выносить свои вещи из кельи.
Ну, а монахи, конечно, сбежались — увидели. И игумен вышел.
— Здравствуйте, — говорит. — Сходите.
— Здравствуйте, — говорит. — Не могу.
— Отчего же, — спрашивает, — не можете? Не больны ли? Как, дескать, ваше самочувствие и все такое?
— Ничего, — говорит Владимир Иванович, — спасибо. Я, — говорит, — приехал попрощаться да вещички кой-какие забытые взять. А сойти с экипажа не могу — ужасно тороплюсь и вообще.
— А вы, — говорит игумен, — через не могу. Какого черта! Нужно нам про дело говорить? Купили?
— Купил, — отвечает купчик, — обязательно купил. Такое богатое имение не купить грешно, отец настоятель.
— Ну, и что же? — спрашивает игумен. — Оформить надо… Дар-то…
— Да нет, — отвечает купчик. — Я, — говорит, — раздумал. Я, — говорит, — не подарю вам это имение. Разве мыслимо разбрасываться таким добром? Что вы?
Чего тут и было после этих слов — невозможно рассказать. Игумен, конечно, ошалел, нос у него сразу заложило — ни чихнуть, ни сморкнуться не может. А эконом — мужчина грузный — освирепел, нагнулся к земле и, за неимением под рукой камня, схватил гвоздь этакий длинный, барочный, и бросился на Владимир Иваныча. Но не заколол — удержали. Владимир Иванович побледнел, откинулся в экипаже.
— Пущай, — говорит, — пропадают оставленные вещи.
И велел погонять.
И уехал. Только его и видели.
Говорили после, будто он примкнул к другому монастырю, в другой монастырь начал жертвовать, но насколько верно — никто не знает.
А история эта даром не прошла. Которые верующие монахи стали расходиться из монастыря. Первым ушел молчальник.
— Ну, — говорит, — вас к чертям собачьим!
Плюнул и пошел, хотя его и удерживали.
А засим ушел я. Меня не удерживали.
Любовь
Вечеринка кончилась поздно.
Вася Чесноков, утомленный и вспотевший, с распорядительским бантом на гимнастерке, стоял перед Машенькой и говорил умоляющим тоном:
— Обождите, радость моя… Обождите первого трамвая. Куда же вы, ей-богу, в самом деле… Тут и посидеть-то можно, и обождать, и все такое, а вы идете… Обождите первого трамвая, ей-богу. А то и вы, например, вспотевши, и я вспотевши… Так и захворать очень просто по морозу…
— Нет, — сказала Машенька, надевая калоши. — И какой вы кавалер, который даму не может по морозу проводить?
— Тык я вспотевши, — говорил Вася, чуть не плача.
— Ну, одевайтесь!
Вася Чесноков покорно надел шубу и вышел с Машенькой на улицу, крепко взяв ее под руку.
Было холодно. Светила луна. И под ногами скрипел снег.
— Какая вы неспокойная дамочка, — сказал Вася Чесноков, с восхищением рассматривая Машенькин профиль. — Не будь вы, а другая — ни за что бы не пошел провожать. Вот ей-богу, в самом деле. Только из-за любви и пошел.
Машенька засмеялась.
— Вот вы смеетесь и зубки скалите, — сказал Вася, — а я действительно, Марья Васильевна, горячо вас обожаю и люблю. Вот скажите: лягте, Вася Чесноков, на трамвайный путь, на рельсы, и лежите до первого трамвая — и лягу. Ей-богу…
— Да бросьте вы, — сказала Машенька, — посмотрите лучше, какая чудная красота вокруг, когда луна светит. Какой красивый город по ночам! Какая чудная красота!
— Да, замечательная красота, — сказал Вася, глядя с некоторым изумлением на облупленную штукатурку дома. — Действительно, очень красота… Вот и красота тоже, Марья Васильевна, действует, ежели действительно питаешь чувства… Вот многие ученые и партийные люди отрицают чувства любви, а я, Марья Васильевна, не отрицаю. Я могу питать к вам чувства до самой моей смерти и до самопожертвования. Ей-богу… Вот скажите: ударься, Вася Чесноков, затылком об тую стенку — ударюсь.
— Ну, поехали, — сказала Машенька не без удовольствия.
— Ей-богу, — ударюсь. Желаете?
Парочка вышла на Крюков канал[198].
— Ей-богу, — снова сказал Вася, — хотите вот — брошусь в канал? А, Марья Васильевна? Вы мне не верите, а я могу показать…
Вася Чесноков взялся за перила и сделал вид, что лезет.
— Ах! — закричала Машенька. — Вася! Что вы!
Какая-то мрачная фигура вынырнула вдруг из-за угла и остановилась у фонаря.
— Чего разорались? — тихо сказала фигура, подробно осматривая парочку.
Машенька в ужасе вскрикнула и прижалась к решетке. Человек подошел ближе и потянул Васю Чеснокова за рукав.
— Ну ты, мымра, — сказал человек глухим голосом. — Скидавай пальто. Да живо… А пикнешь — стукну по балде — и нету тебя. Понял, сволочь? Скидавай!
— Па-па-па, — сказал Вася, желая этим сказать: позвольте, как же так?
— Ну! — человек потянул за борт шубы. Вася дрожащими руками расстегнул шубу и снял.
— И сапоги тоже снимай! — сказал человек. — Мне и сапоги требуются.
— Па-па-па, — сказал Вася, — позвольте… мороз…
— Ну!
— Даму не трогаете, а меня — сапоги снимай, — проговорил Вася обидчивым тоном, — у ей и шуба, и галоши, а я сапоги снимай.
Человек спокойно посмотрел на Машеньку и сказал:
— С ее снимешь, понесешь узлом — и засыпался. Знаю, что делаю. Снял?
Машенька в ужасе глядела на человека и не двигалась. Вася Чесноков присел на снег и стал расшнуровывать ботинки.
— У ей и шуба, — снова сказал Вася, — и галоши, а я отдувайся за всех…
Человек напялил на себя Васину шубу, сунул ботинки в карманы и сказал:
— Сиди и не двигайся, и зубами не