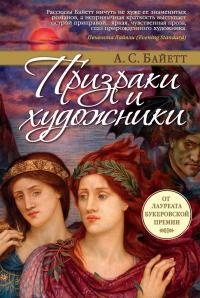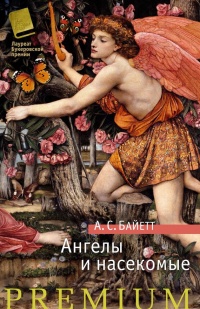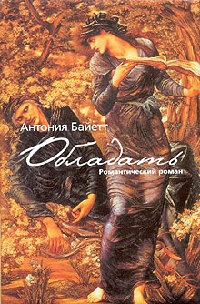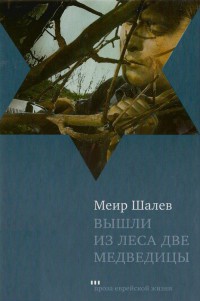Ознакомительная версия. Доступно 32 страниц из 157
При рукоположении Дэниел был призван служить и защищать Церковь и паству – Супругу и Тело Христово. «Будут двое одна плоть, – продолжает апостол. – Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви».
Как и полагается англичанам, во время этой речи никто никому не смотрел в лицо. Сходя с амвона по винтовой лесенке на землю, мистер Элленби вспомнил, с каким каменным лицом Дэниел слушал его рассуждения об апостоле Петре, который, по словам Крамнера, «сам был женатым человеком». Увесистые мнения Крамнера об обращении жены-язычницы тоже нашли место в литургии: «Даже если кто не следует Слову Божию, может быть спасен и без Слова, если обратит жену свою». «Или мужа», – добавил мистер Элленби, глядя на Дэниела. Тот буркнул: «Да» – и только-то. Мистер Элленби порой подозревал, что Дэниел сам больше чем наполовину язычник. Невеста, которая ему, к слову, нравилась, парадоксальным образом была более способна уловить суть аналогий апостола Павла и викария, чем его мрачный курат. Не так давно она сидела у него в кабинете и весьма проницательно говорила о «Храме» Герберта. Викарий был убежден, что ее душевный мир зиждется на христианских принципах. Иначе не могло и быть. Тут, возможно, заключался еще один божественный парадокс: ее душевная чистота могла приблизить к Богу диковатого Дэниела. О многом предстояло молиться викарию. Он ласково глянул на покрытую вуалью белую голову, в которой на миг возникла крамольная мысль о заведомой непрочности аргументов, построенных на аналогии. Затем красивым движением благословил молодых супругов.
Маркус в задней части церкви прижался лицом к холодной колонне, из-за которой на Пасху выглядывала Стефани. Во время церемонии он периодически сверялся с часами: главное – синхронность. Он видел старинную, редкостную роспись над арками. Видел спины Стефани и Дэниела. Чувствовал сильный запах мадагаскарского жасмина, камня и воска. Частично улавливал, что говорит викарий. Бездумно смотрел на выцветшие у́гольные линии, мазки охры, желтой и красной краски, на подтеки кобальта. Змей, обвивший древо, Ева, еще противящаяся соблазну, Младенец на руках у горестной Матери, Христос, распятый на дереве[276], Христос во гневе и славе, раскрытая, зубастая, зияющая адская пасть. Маркус и сам вдруг раскрыл рот в нервном зевке. От напряжения его всегда тянуло спать. Он снова глянул на мелкий циферблат часов. В последнее время, отдавшись в своих поисках на волю случайности, они с Лукасом добились поразительных успехов в передаче подробнейших мысленных образов. Минут через десять он должен превратиться в приемник, антенну, вибриссу. А потом в передатчик. Теперь это делалось быстро и просто. Ноги вместе, руки вместе, глаза закрыть, разум очистить. Дальше открыть глаза, расфокусировать. Вызвать фигуру и удерживать ее – всю ясную, из чистых линий. И вот – сквозь нее и вопреки – проступает изображение, послеобраз на сетчатке мысленного ока, проекция. Это нужно записать. Если нет такой возможности, то запомнить.
Слова и мысли передавать пока не получалось. Лукас был недоволен: совершенно необходимо дойти до передачи мыслей. Но Маркус никак не мог уловить главное отличие мысли от речи. Для Лукаса мысль равнялась некой истине о Биосфере, о природе сознания, о ментальном Замысле эволюции видов. Маркус недоумевал: как можно такую мысль сформулировать для передачи и, главное, как ее можно телепатически воспринять? Лукас ворчливо возражал ему, что в смысле зрительных образов они мало чего достигли: все бесцельно и вторично, словно назло. Какая им польза от цветочного рисунка на покрывале из Калверлейского фольклорного музея? Или от решеток и пружин в стиле Пиранези[277], переданных Маркусом, принятых и зарисованных Лукасом – и оказавшихся внутренностями тостера Уинифред, разобранного для ремонта? Но после событий у Капельного колодца и на Оджеровом кургане Маркус обнаружил, что имеет над Лукасом определенную власть, от которой получал теперь некое отрешенное удовольствие. Он не так уж и жаждал послания свыше. Принимаемые образы имели четкие границы, были послушны ему и потому приятны. Они не простирались в бесконечность, чем так страшна была его геометрия, одновременно утешительная в своей нечеловеческой ясности. Они были свободны от заикливой, грузной словесной толкотни человеческих теорий, которыми Лукас иногда терзал его разум. Они равно принадлежали и Лукасу, но Маркус имел к ним ход отдельный. То были победы со множеством приятно подробных этапов и вовсе без какой-либо цели. Именно такими он их и любил. Поэтому сказал Лукасу, что, по его мнению, образы имеют глубинное значение, которое откроется, если они перестанут вмешиваться в ход событий. Ведь обнаружили же они, что передаваемое должно приходить к ним случайным образом. Нельзя подгонять успехи под назидательные выводы или «проверки». На явленное нельзя глядеть прямо. Не видеть вплоть – только искоса подмечать. Это было настолько верно, что Лукас сдался: они продолжат в том же духе. Вскоре он даже выдвинул гипотезу, что они сейчас проходят подготовку. В нужный час они должны будут удержать в памяти некую ментальную схему, небывалую доселе, – столь точную и тонкую, что неподготовленный разум не только не уловит, но и не распознает ее. Маркусу это отчасти понравилось. Раз потребуется такая исключительная точность, дело завладеет им целиком и, верно, избавит от многих нынешних страхов. Он до сих пор втайне сомневался, что хоть чему-то из этого можно дать имя на человеческом языке.
Ему совсем не нравилась идея принимать и передавать что-то в церкви. Лукас весьма точно определял места силы. Другой вопрос, что он делал с этим знанием, но в смысле чутья на него можно было положиться. Тут каменные столбы и балки пели собственной геометрией. Это пение он улавливал и видел как мощную трехмерную систему взаимосвязанных линий и пропорций, охватывающую пространство, а в нем узел пересечений. Но двери, крыши, проходы, арки все время отодвигались, уходя в бесконечность. Бесконечный ящик – пугающая вещь. И цветочные, кивающие женские головы – это тоже было силовое поле, способное – как знать? – и усилить, и исказить любой сигнал. «Еще неизвестно, – думал он, слыша и не слыша, как мистер Элленби восхваляет апостола Павла, – что может проникнуть через такое поле». «О Господь, кто в мощи своей сотворил все из ничего, – возгласил викарий, – кто (завершив прочее творение) судил, чтобы из мужа (созданного по Твоему образу и подобию) произошла жена…» Минутная стрелка дошла до назначенной риски. Пора. Маркус до мелочей осознал свое тело, а затем разом упразднил его. Посмотрел в темноту и увидел фигуру, парящую в не-пространстве. Тишина сгущалась. Он ждал.
Он увидел растения. Сначала коротко явился цветок, в котором он узнал каллу, или, как ее еще называют, «лорд-и-леди»[278]: единственный бледно-зеленый лист, обернутый вокруг торчащего, мясистого, пурпурно-бурого фаллического соцветия. На смену ему ясно и ярко проступил целый букет трав, обернутый большим зеленым листом, низко свесивший метелки и колоски. Были там овсяница и полевица, мятлик и луговик, плевел, пырей, трясунка: серебристо-зеленые и зелено-золотые, стеклянисто-бледные, почти прозрачные, малахитовые, нефритовые. Тонкие линии вдоль стеблей поблескивали, как натянутые волосы, припухшие суставы-узелки лоснились. Идя лугом, через болото, вдоль реки, он не задумываясь потоптал бы тысячи таких растений. Здесь же они казались сделанными небывало тонко, и каждое – наособицу. Они были красивы. Маркус не был ни знатоком, ни приверженцем красоты. В пустынном краю его мысли она давно уже не имела ценности. Он часто слышал: «Смотри, как красиво!» – и всегда отводил глаза. Он и сейчас не произнес мысленно этого слова, тем более что его дело было просто смотреть. Но он остро сознавал удовлетворение от цветов, форм и их разнообразия. Несколько раз уже образы, передаваемые Лукасом, принимали именно эту форму связанных природных тел: яиц, позвонков, камней и раковин. И всегда при этом Маркус испытывал избыток эстетического удовольствия. Он не знал, да и в этот раз не спросил, передается ли это чувство вместе с образами. Кто его испытывает: Лукас или он сам? Травы тем временем побледнели, словно увяли, и какое-то время странная, прозрачная, стеклянистая тень их колебалась и дрожала в воздухе. Каждый трубчатый стебель виделся теперь как полупрозрачный бесцветный цилиндр, просвеченный изнутри, каждое зернышко, каждая колючая шелушинка или поникший колосок являлись во всей сложности соположения их мельчайших частиц. Но даже не считая этого, у Маркуса в памяти часто сохранялось множество точных чисел: сколько было стеблей, початков и даже колосков. Лукас, если бы мог, сохранил бы травы для последующего пересчета.
Ознакомительная версия. Доступно 32 страниц из 157