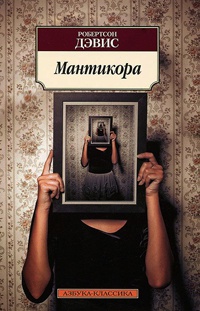Портреты карликов — не редкость, и кое-кого из них мы знаем по именам. Ван Дейк изобразил королеву Генриетту Марию с ее карликом, сэром Джеффри Хадсоном;[97]Бронзино нарисовал карлика Морганте в обнаженном виде, спереди и сзади, чтобы ни одна деталь не пропала. В музее Прадо хранятся изображения карлицы Эухении Мартинес Вальехо, как одетой, так и раздетой.[98]Карлики Риси[99]и Веласкеса наблюдают за королевской роскошью словно издали, из своего собственного мира, с каким-то полупониманием. Их мы знаем не по именам, но по боли, которая читается в пристальных взглядах. В менее деликатные эпохи карлики были любимой забавой, и с ними порой обращались примерно так же, как жители Блэрлогги обошлись с Франсуа Бушаром, доведя его до петли.
Графиня зачитала Сарацини и Фрэнсису письмо своего кузена с жаром, какого Фрэнсису доселе не доводилось наблюдать у этой весьма сдержанной дамы. Эксперты немного почистили картину, и что же они нашли? Знак, напоминающий Firmenzeichen, семейное клеймо Фуггеров, но, возможно, это нечто гораздо более интересное: действительно, он похож на вилы или трехсвечник с нарисованной рядом буквой «О», но это может быть и виселица с болтающейся на ней петлей! Находка и связанная с ней загадка привели искусствоведов в восторг. Может быть, карлика повесили? В том, что это и впрямь дурачок Гензель, у экспертов не было и тени сомнения. Упоминания о нем сохранились в истории, но его изображений никто раньше не видел. Вот это подлинно находка для Фюрер-музея, словно дуновение ветра из давнишней, бесстрашной духом Германии, которая не пряталась от реальности, даже самой гротескной.
Князь очень тщательно формулировал фразы. Любая тайная полиция, перлюстрируя письмо немецкого аристократа к его высокородной кузине, не узрела бы в написанном ничего, кроме явно перечисленных фактов. Но в Дюстерштейне воцарилась великая радость.
Фрэнсис не радовался. Он совершенно не ожидал, что его намерение оставить некое свидетельство, комментарий к судьбе знакомого ему карлика, выйдет на свет. Эта картина была для него очень личным делом — можно сказать, приношением по обету в память человека, с которым он никогда и словом не перемолвился и которого узнал только после его смерти. Фрэнсис очень страдал и наконец, не выдержав мучений, пожаловался Сарацини.
— Дорогой мой, неужто вы удивлены? Мало что из тайного не становится в конце концов явным, и в вашем возрасте пора бы уже это знать. А искусство — способ поведать правду.
— Так говорил Браунинг. Моя тетя, бывало, вечно его цитировала.
— Ну и?.. Ваша тетя наверняка мудрая женщина. А Браунинг — тонкий психолог. Но как же вы не видите? Именно чистота правды, глубина чувства, воплощенная в вашей картине, привлекли к ней внимание всех этих ученых мужей.
— Но это же обман!
— Я вам подробнейше объяснил, что это никакой не обман. Это откровение ряда вещей о человеке, изображенном на картине, и о вас, а не обман.
Фрэнсис не очень радовался тому, что его личное мнение о непредсказуемости и частой несправедливости судьбы прославили как портрет давно умершего карлика. Но его не могла не радовать похвала искусству художника, пускай этот художник и оставался безымянным. Он незаметно (как ему казалось) подводил разговор к тому, чтобы Сарацини похвалил «Дурачка Гензеля», тонкую работу художника, подлинный дух прошлого, цветовую гамму и ощущение большой картины, хотя на самом деле она была маленькой. Ему не удалось обмануть итальянца, и тот посмеялся над его манерой выпрашивать похвалу.
— Но я с удовольствием буду хвалить вас, — продолжил Сарацини. — Почему бы вам не попросить комплиментов прямо, как подобает настоящему художнику? Что вы мнетесь и жеманничаете, как старая дева, которая рисует цветочки акварелью?
— Я не хотел придавать чрезмерное значение такой мелочи.
— О, я понял: вы не хотите впадать в грех гордыни. Ну так не шарахайтесь от гордыни лишь затем, чтобы впасть в лицемерие. Вы вели собачью жизнь, Корнишь, вас воспитывали полукатоликом-полупротестантом в какой-то ужасной дыре, и вам достались худшие половины от обеих этих систем двуличия.
— Но-но, Meister! Я же вижу, что вы добрый католик.
— Может быть. Но когда я художник, я изгоняю всякую религию. Католическая вера породила множество великих произведений искусства; протестантизм — ни одного. Ни единой картины. Но католическая вера взрастила искусство в самой пасти христианства. Если Царство Божие когда и наступит, в нем не будет никаких картин; Христос никогда ни в малейшей степени не интересовался искусством. Его Церковь вдохновила множество картин и скульптур, но вовсе не потому, что Он так учил. Кто же тогда вдохновитель? Очевидно, всеми ненавидимый Сатана. Именно он понимает плотскую и интеллектуальную сторону человеческого существа, он питает их. А искусство — плотско и интеллектуально.
— Значит, вы работаете под крылом Сатаны?
— Приходится, иначе я вовсе не смогу работать. Христу ни к чему люди вроде меня. Вы никогда не замечали, читая Евангелие, как решительно Он держится в стороне от любого человека, в котором можно заподозрить хоть каплю ума? Добросердечные простачки и женщины ничем не лучше рабынь — вот кто за Ним следовал. Неудивительно, что католичеству пришлось занять такую решительную позицию, чтобы привлечь к себе умных людей и художников. А протестантизм пытался сделать противоположное. Знаете, чего мне хотелось бы, Корнишь?
— Нового Откровения?
— Да, может и этим кончиться. Мне хочется, чтобы устроили слет, на который Христос привел бы всех Своих святых, а Сатана — всех своих ученых и художников, и пускай дискутируют до победного конца.
— А кто будет судьей?
— Вот в чем вопрос! Не Бог Отец, конечно, — Он ведь приходится отцом обоим спорщикам.
Сарацини действительно хвалил «Дурачка Гензеля», как они с Фрэнсисом теперь называли эту картину. Но на этом не остановился. Он безмолвно принял Фрэнсиса в круг людей, удостоенных близкого общения с Мастером, и теперь за работой без устали говорил о том, что считал философией искусства. Его философия была изуродована столь роковой для философов болезнью — личным опытом.