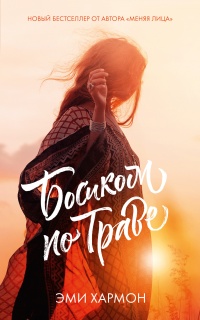— Ваше посещение — большая честь для меня, дорогой синьор, — сказала она ему. — Дядюшка не раз упоминал о вашей долголетней союзнической верности и дружбе. — Бьянка кивнула моему сыну. — Леонардо уверял меня, что вы были ему добрым покровителем. — Она улыбнулась мне со снисходительным равнодушием. — Вы, вероятно, чрезвычайно гордитесь вашим племянником.
— Да, — подтвердила я. Мне стало как-то не по себе, словно мы по ошибке попали в чужой дом.
— Бернардо, — окликнула хозяйка слугу, ожидавшего приказаний у двери. — Я прогуляюсь с гостями, покажу им наши угодья.
— Буду рад сопровождать вас, — ответил тот с заметным неодобрением.
Бьянку, очевидно, здесь берегли пуще глаза.
— Это излишне: ко мне приехали давние друзья.
Слуга удалился, прикрыв за собой дверь, и в тот же момент с хозяйкой особняка произошла удивительная перемена. Ее лицо смягчилось, она сердечно улыбнулась нам и обняла Леонардо, затем опустилась на колени перед Лоренцо и пылко прижала к губам его распухшую в суставах руку.
Встав, она вымолвила: «Пойдемте со мной», и отворила дверь, ведущую в прекрасный сад. Пока мы не удалились от особняка на почтительное расстояние, Бьянка говорила с нами очень тихо, но потом ее звонкий голос исполнился горячности.
— Я так рада, что вы приехали! — воскликнула она. — Какие кошмарные вести приходят из Флоренции!
— Значит, вы правильно поняли все, что я вам написал, — утвердительно произнес Лоренцо.
— Ах, конечно! То, что не было в вашем письме зашифровано, вы изложили по-гречески, а этот язык в нашем доме понимает кроме меня лишь один человек — мой учитель. И за него, к слову, я должна благодарить тоже вас, Лоренцо. Если бы не влияние Медичи на Сфорца, не их страсть к классической культуре, — пояснила она нам с Леонардо, — никогда не заполучить бы мне в наставники грека…
Она не договорила, поскольку мы подошли к небольшому строению, скрытому от взоров древними раскидистыми деревьями. Отыскав среди складок юбки цепочку, Бьянка сняла с нее ключ и отомкнула входную дверь. Мы проникли в сумрачный зал, и наша провожатая тут же гулко захлопнула за нами массивную сворку.
— …и не сделаться приверженкой Платона, — закончила Бьянка.
Под сводами ей вновь отозвалось жутковатое эхо. Герцогиня с выверенной ловкостью сняла со стены факел и подошла к каменной чаше, в которой плавал в масле тлеющий фитилек. Когда факел как следует разгорелся, мы убедились, что в помещении не было иной обстановки, кроме турецкого ковра на полу.
— Маэстро, — обратилась Бьянка к Леонардо, — не отогнете ли вы вон тот край?
Он подчинился, и мы увидели в каменном полу под ковром крышку подвальной двери с вделанным в нее металлическим кольцом. Высоко подобрав юбки, Бьянка первая начала спускаться по осыпающимся ступеням, зажигая по пути настенные факелы, так что склеп, представавший нам из темноты, не казался столь зловещим.
— Скоро я стану женой Максимилиана, — говорила Бьянка, зажигая все новые факелы, — и императрицей Священной Римской империи.
Мы меж тем достигли подножия лестницы.
— Не напиши вы мне тогда, не окажись теперь в Милане, — обернувшись к нам, произнесла искренне герцогиня, — потом я, без сомнения, была бы бессильна помочь вам. Я понятия не имею, какое мнение у моего супруга на сей счет.
— Сложно предугадать, — согласился Лоренцо. — Он славится обширными познаниями, покровительствует ученым и дружит с ними, но его добрые отношения с Римом никак нельзя сбрасывать со счетов. А союзнические узы так же непостоянны, как погода в Альпах. И сами властители, в венце ли они или в папской тиаре, и отпущенные им на земле сроки, и их военные распри — от всего этого напрямую зависит исход нашего трудного предприятия. Но если парки на нашей стороне — ибо мы непогрешимо уверены в своей правоте, — нас непременно ждет успех.
Бьянка с готовностью кивнула. В мягком свете факела она казалась очень миловидной, и я невольно задалась вопросом: что за жизнь ждет ее в северных краях, в далеких Австрии и Бургундии. Будет ли ей недоставать здешних благодатных весен, сероватой зелени оливковых рощ, родни, всех итальянских земляков?
И наставника-грека… Вот кто являлся ключом к разгадке соучастия в нашем сговоре Бьянки Сфорца, знавшей и почитавшей платоников — и Гермеса Трисмегиста. Свою роль тут сыграл и особый знак ее учености, который она не случайно вышила на рукаве, а мы с Лоренцо потом увидели в Ватикане на ее портрете, — египетский крест, или анк, символ Исиды. То был яркий путеводный маяк для всех посвященных, при желании приобретающих в совсем юной девушке родственную душу и друга-философа.
Подземный склеп был сплошь заставлен массивными сундуками. Я подумала, что многие из них полны золота, самоцветов и серебряных монет, как в сокровищнице Il Moro. Бьянка присела возле одного, надежно запертого. Она извлекла из складок платья другой ключ, из чистого золота и, отпирая замок, призналась:
— Я всегда жалела, что не родилась мужчиной, но не любым мужчиной, живущим где угодно, а таким, что родился и вырос бы во Флоренции в золотой век Медичи — при Козимо, Пьеро, Il Magnifico… — Она обернулась на нас через плечо — на ее ресницах блеснула слезинка. — Чтобы учиться вместе с Фичино, Альберти, Мирандолой…
— Бьянка, милая моя девочка, — положил руку ей на плечо Лоренцо, — знай же, что все мы перед тобой в неоплатном долгу. Твоя помощь нам, твой сегодняшний поступок навеки вводит тебя в наш круг.
На лице Бьянки отразилась безмерная радость, и слезы сами полились из ее очей. Она нагнулась над сундуком и вынула его содержимое. Лоренцо и Леонардо помогли ей подняться с ношей, и мы все вместе подошли к стенному факелу, чтобы рассмотреть таинственное сокровище. В пунцовом бархатном мешке обнаружился деревянный ларец, обитый серебряными позолоченными гвоздями. К нему у герцогини имелся особый золотой ключик. Она извлекла из ларца некий сверток, обмотанный алым шелком, и аккуратно сняла шелковый чехол. Мы увидели многократно сложенный отрез пожелтевшего холста, по виду самого обыкновенного.
Бьянка принялась дотошно разъяснять нам, как следует разворачивать полотно — держа его за оба конца и за каждый из углов. В длину оно оказалось гораздо больше, чем в ширину, и напоминало узкое покрывало. По мере разматывания на холсте проступали красновато-бурые пятна, сложившиеся в изображение человеческого тела, видимого спереди и сзади. Христов саван — а мы, судя по всему, держали в руках именно его — сохранил кровавые метки от ран Иисуса: на руках и ногах, на груди и на голове.
Даже неискушенный глаз распознал бы в нем живописную подделку, притом довольно неумелую. Так или иначе, это и была бесценная священная реликвия рода Савуа — Лирейская плащаница.
— Твой дядюшка Яков обмолвился нам в Риме, что холст много лет не выставляли на публике, — сказал Лоренцо.
— Теперь я понимаю почему, — с явным пренебрежением заявил Леонардо.
— Можно его воспроизвести? — спросила я.