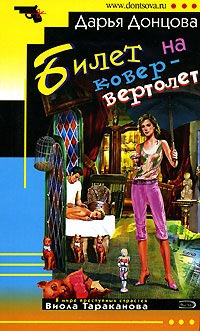убьёт она себя или нет, то сейчас мы оба понимали, что нож у помешанной особы лучше забрать. Кто его знает, может, она решит покалечить кого-то из нас.
Да и связываться с полицией никак не хотелось.
– Это не я, – вдруг сказала Хосефа, – не я.
– Ничего нет, – сказал Полянский, ещё раз осмотрев всё вокруг.
– У меня нет ножей, – повторила она.
– Послушайте, мисс, – наклонился к ней доктор, – мы обязаны сообщить об этом начальнику поезда. На следующей станции сюда придут полицейские, возможно, и медики, и тогда…
Он знал, на что давить. Не хотел он никакой полиции, и это было ясно.
– …и тогда вас заберут в отделение, – продолжал он, – и будут допрашивать несколько часов.
Я посмотрел на Хосефу – губы её, и без того бледные, отдавали теперь синевой, руки дрожали, казалось, она еле дышала, если вообще могла дышать.
– Может, притормозить? – наклонился я к нему. – Вы как-то перегибаете.
– Хотите в следующий раз найти её труп? – сказал он сквозь зубы. – Или труп кого-то ещё?
Он был прав. Надо было её дожимать.
– Вам нужны неприятности с законом, мисс? Вы слышите меня, Хосефа? Вас снимут с поезда, если вы не отдадите нам нож.
– Это был кто-то другой! – вдруг закричала она и рухнула на подушку.
Этот крик был последним, на что у несчастной хватило сил. Она уткнулась в подушку и задрожала всем телом в нарастающем тихом плаче. Полянский тем временем по второму разу осматривал её купе.
– Кто-то ранил меня, – бормотала Хосефа, – кто-то порезал мне руку, это не я, не я…
– На вас напали? – переспросил доктор.
Хосефа подняла заплаканное лицо и еле заметно кивнула.
– И как он выглядел?
Хосефа пожала плечами.
– Какой рост, возраст, какие-то приметы?
– Я его не видела, – сказала она, – я решила прилечь, а проснулась от резкой боли. Я чувствовала нож, как он впился мне в руку…
– Куда он ушёл? – спросил я.
– Не знаю, – мотала она головой.
– Вы и не взглянули на него?
– Мне было больно и страшно, – истерично шептала она. – Я зажмурилась, а когда открыла глаза, никого уже не было рядом. И моя рука, – она дотронулась до пластыря, – рука сильно болела.
– Неудивительно, – сказал доктор, – дайте посмотреть вашу руку.
Он отклеил один пластырь, потом второй, ещё раз посмотрел на порезы, потом заклеил и вышел за дверь.
А я всё сидел возле Хосефы и всматривался в её лицо. По нему пробежала нервная дрожь. Где же я тебя видел? Может, в городе? Среди прохожих или зрителей в зале? Кто же ты…
Полянский стоял в коридоре, напротив открытой двери, и смотрел в мчащийся горизонт.
Я дождался, пока девушка закроет глаза, и накрыл её одеялом.
– Вы же понимаете, что это бред? – шепнул я Полянскому, прикрыв за собой дверь.
– Не уверен, – сказал он.
– Мы же не собираемся постоянно её караулить?
– Я – точно нет, – сказал он, а сам прислушивался к тому, что было за дверью.
Я тоже слушал и не понимал, когда равнодушие к человеку сменяется треклятой заботой. На какое-то время я даже забыл, куда ехал сам.
Поезд мчался сквозь ветер и редкие хлопья снега, они оседали на окнах и таяли в тот же миг. В вагоне как-то резко похолодало.
– Откуда здесь столько снега? Так всегда на пути в Нью-Дем? Я никогда там не был.
– Горы недалеко, – указал на хребты Полянский. Они уже почти утопали в подступающей темноте.
Как сказал нам проводник, которого мы встретили, только выйдя в тамбур, тело Генриха Салливана (так звали несчастного с отёком Квинке) довезут до следующей станции, что будет через два часа, а там отдадут полицейским.
Из-за темени и поднимавшейся бури ничего не было видно. Я понятия не имел, где мы сейчас.
– Итак, – посмотрел я на задумчивую физиономию доктора, – кто-то из пассажиров убийца?
– Если бы он был убийцей, – доктор зажёг сигарету, – мисс Суарес была бы уже мертва.
– Но кто-то же на неё покушался.
– Да, но не сейчас.
– Вы хотите сказать…
– Я ещё по первому порезу заметил, – Полянский причмокнул дымящейся сигаретой, – но думал, мне показалось.
– Показалось что?
– Этим порезам порядка трёх часов, – сказал он, выпустив дым мне в лицо.
– Как тогда вы не заметили второй порез раньше, если он там уже был?
– Он был под другим рукавом, – сказал Полянский. – Мне не пришло в голову раздеть её догола.
– Значит, вы полагаете…
– Она уже села на поезд с этими порезами, – причмокнул он ещё раз.
– Кто-то напал на неё на вокзале?
– Может, она оттого и бежала, – пожал он плечами, – откуда мне знать.
Мне хотелось спросить, от чего бежал он, но я промолчал.
– Вполне может быть, – согласился я, – и как думаете, он, этот кто-то, тоже сел в поезд? Я имею в виду, он может быть здесь, среди нас?
– А кто его знает, – затушил он окурок. – Я бы не лез в это дело.
И я не хотел в него лезть, но всё же, – я посмотрел на Полянского.
– Мне кажется, это что-то психическое. Вы же видели её взгляд?
– Кстати, – он повернулся ко мне, – по поводу её взгляда, вы тоже заметили, да?
– Заметил что?
– У неё там, на плече, выше пореза, хороший след от укола.
– Вы уверены?
– Поверьте, я знаю, как выглядят такие следы – небольшая красная точка и ещё не пожелтевший синяк. Так и делают такие уколы – с размаху, боясь не успеть.
– Не успеть что?
– Не знаю, – ухмыльнулся Полянский. – Что первое приходит вам в голову?
– Так что же, она наркоманка? И укололась, и порезалась сама?
– Может, и так, – всматривался он в окно. – Может, и так. По крайней мере, давайте надеяться на лучшее.
– По-вашему, лучшее – это ехать в соседнем купе с сумасшедшей, которая режет себя?
– А, по-вашему, лучше быть в одном поезде с психом, который режет других? – смотрел на меня Полянский.
Я не знал, что было лучше. Чёрт возьми, в этом поезде всё было не так.
– Значит, мою гипотезу, что мистера Салливана отравили, вы не примете тоже?
– С момента, когда он положил себе первую вилку омлета в рот, – задумчиво прищурился Полянский, будто вычисляя, – и после того, как упал, прошло примерно пять минут.
– Вы что, считали?
– Я сказал примерно…
– Значит, возможно?
– Смотря какой яд.
Мы оба молчали. Полянский смотрел в окно, я смотрел на него, пытаясь понять, не видел ли я его раньше.
– Отличные часы, – вдруг сказал он.
Я взглянул на свою руку – часы, что всё это время были выше запястья и прикрывались рукавом, спали, показавшись из-за рукава