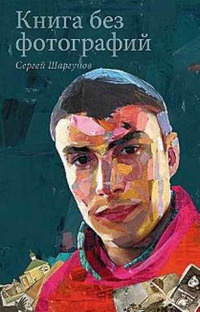IX
Ошейники из кованого железа, цепи и кандалы, запахи умирающих и живых, а также подлинный дух страдания, поразительная правда презрения, славная свобода пренебрежения, немой страх множества рыб и моя никому не нужная любовь к ним — всё это я познал и больше это не повторится. Наш мир обрушился на меня и сделал душу мою прозрачною, чтобы все могли видеть её насквозь в образе слов, картин и рисунков, но ей, беззащитной, открытой чужому взору, было позволено стать чем-то иным, не оставаться всё тою же дрожащей нагою душой. Если бы мои работы сделали меня знаменитым, я бы столкнулся с другим отношением: за мной бегали бы; мне бы льстили, лгали; мои нелепые мнения провозглашались бы значительными; моё ничтожное присутствие считалось бы благословением, а моё уродливое лицо — верхом красоты. Фальшивое признание достоинств; напыщенное самодовольство успеха; тюрьма завоёванной репутации; мужчины, мечтающие пролить надо мною золотой дождь; женщины, мечтающие лечь со мною в постель; все ищут моего общества или хотя бы мимолётного знака внимания, наброска, записки, намёка на то, что я их знаю. Всё было бы моим, и моё имя значило бы больше, чем мои работы. Они ценились бы всё меньше и меньше, и прежде всего мною самим. Я стал бы мечтать о смерти.
Многие годы я рисовал рыб, и удивительно ли, что под конец я им изменил. Я покинул их, сжёг, но так и не разлюбил; я был подобен Вольтеру, который так боготворил мадам дю Шатле, что изменял ей с целым табуном других женщин, пока у неё не завязалась короткая связь с другим, от коего она понесла. Слишком поздно Вольтер понял, что рискует потерять, и воротился — лишь для того, чтобы увидеть, как его величайшая любовь умирает в родах, — вот почему трудно не признать в высшей степени справедливым, что, послужив причиной такого несчастья, он превратился в пустоголовую бутыль для одеколона, обречённую до скончания веков дарить женщинам наслаждение.
Снаружи наш мир похож на красную, тлеющую головешку. Изнутри же него я коричневыми чернилами, сделанными в отчаянии из последнего, что у меня осталось, — слюны и метательного снаряда, обычно припасаемого для Побджоя, — начинаю описывать последние часы, мои и нашего поселения, какими их прожил простой каторжник; и правда жизни требует, чтобы их живописали умброй, ибо только ею такой, как я, может выразить свой протест, всю свою ярость, ненависть и страх перед нашим дерьмовым миром; и сделать это нужно измазанными в дерьме руками, посреди тюремных стен, покрытых такими же тёмно-коричневыми разводами, в надежде — кстати, не слишком слабой, — что любовь, выполняя последнюю просьбу, не оставит его, если только он сумеет поглубже копнуть и поискать её среди продуктов собственного распада.
Вилли Гоулд предпочёл бы иметь в запасе побольше слов и побольше листов бумаги, оставшейся от Побджоя, но теперь это уже не имеет большого значения: прочитайте его пачкотню и поймите её, как знаете — как оправдание «поискам другого пристанища», по выражению Побджоя; как восстание против мрака — так выразился бы какой-нибудь критик; как свидетельство веры, если вам это больше по душе; либо, в соответствии с собственным его предпочтением, как признание неудачника в полном своём крахе.
Вот уже много лет я рисую рыб, и должен сознаться, то, что начиналось как обман, по приказу, позже перешло в ненавязчивую потребность, затем — в преступное деяние, а в итоге стало моей любовью. Сперва я пытался, в меру скромных своих дарований, создать некую повесть о здешних местах и людях, разных разностях, с ними приключающихся, и передать всё это через рыб. В то время я думал запечатлеть типы самых что ни на есть рядовых каторжан, безликих бедолаг, которые никогда не попадают на портреты, которые существуют помимо собственных тел лишь в качестве статей приговора, предусматривающего высылку, списка особых примет, перечня назначенных наказаний, специальной синей татуировки на груди и плечах, сделанной порохом и заросшей волосами, грошового талисмана на морщинистой шее, который напоминает о крепкой и сладкой плоти подарившей его молодой женщины, да ещё памяти, угасающей быстрей, чем надежда.
Я полагал, что научился рисовать рыб лучше, чем кто-либо ещё за всю историю живописи; что ни Рембрандт ван Рейн, ни Рубенс, ни какая-нибудь знаменитость эпохи Возрождения не достойны даже держать свечку, когда этим занимается Вилли Гоулд; что картины с моими рыбами со временем украсят лучшие дома, а способы изображения жабр и чешуи будут восхваляться многими поколениями профессоров в напудренных париках.
Я способен был заполнить целую лондонскую галерею портретами превращённых в рыб людей, чтобы те, кто придёт посмотреть мои картины, вскоре обнаружили самих себя плавающими в диковинном, незнакомом океане, исполнились великой жалостью к себе подобным и великой любовью к тем, кто с ними не схож, и всё это было бы очень сложно и очень понятно, и объяснить этого они никогда никому не смогли бы.
Затем я увидел всю суетность такого подхода. Меня уже не только не заботило, где могут повесить мои рисунки, но даже не волновало, насколько точными или правильными они кажутся с точки зрения, столь важной для Доктора, то есть с позиции всевозможных научных трудов, вдохновлённых системой Линнея. Я же просто хотел поведать историю любви, и она оказалась о рыбах, обо мне, обо всём на свете. Но я не мог нарисовать всё на свете, ибо умел рисовать только рыб и лишь таким путём рассказывать о своей любви, а поскольку даже это я не умел делать очень уж хорошо, вам может показаться, что это не такая уж стоящая история.
Я постарел. Мой патрон превратился в свиное дерьмо. Я был осуждён на смертную казнь. Мы подожгли наш мир, и он запылал. Я понял, что не рыб пытался уловить в свои сети, но воду, то есть само море, а сети ведь не могут удержать воду, да и я не умею рисовать море.
И всё-таки я продолжил писать свою «Книгу рыб», потому что не мог выразить её содержание иначе, например смехом или танцем, как это, наверное, получилось бы у Салли Дешёвки; я не мог передать его плаванием и прожить, как это делают мои модели, ибо мне доступны лишь наименее адекватные способы передачи мыслей — те образы и слова, которые возникают под моей кистью, под моим пером уже навеки застывшими, мертворождёнными.
А мои рисунки — как в первый же день наставлял меня Доктор — должны были принадлежать к царству жизни, а не к царству смерти. Мне предстояло понять, как двигаются рыбьи плавники, тело и жабры, изучить всё связанное с ними елико возможно подробнее и полнее, и всякий раз, когда они угасали на моём столе, мне приходилось возвращать их обратно в корыто с морскою водой, чтобы они ожили и, подобно мне, ещё на какой-то срок продлили своё существование.
Я хотел рассказать историю о любви и в то же время медленно убивал моих рыб; и мне казалось, что я не прав, когда медленно убиваю рыб, дабы рассказать историю; и я заметил за собою привычку разговаривать с умирающими рыбами, когда их движения становились слабыми и сонными, когда их мозг переставал работать из-за недостатка кислорода.
Я рассказывал им о себе всё, как есть, о том, что я был плохим человеком, негодяем и обманщиком, надумавшим выдать себя за ещё более плохого художника, но всё-таки художника, и я стал им. Я хотел рассказать историю любви, когда медленно убивал этих рыб, и говорил им, что рисую не во имя Науки либо Искусства, но для людей, чтобы заставить их смеяться и думать, чтобы дать людям общество им подобных, подарить им надежду, напомнить о тех, кого они некогда любили, и о тех, кого до сих пор любят, по ту сторону океана, по ту сторону смерти, я говорил о том, что мне казалось очень важным рисовать их именно так, как я их рисовал.