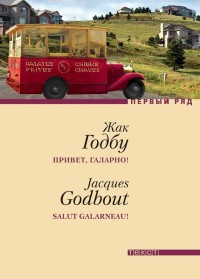Конечно, таковы почти все крупные города. Такова великая столица Цивилизации, откуда прибыл он сам; преступлений, кошмаров и извращений там не меньше. Париж и Лондон славятся вонью своих сточных труб. Венеция — мочой в каждом канале и экскрементами на каждом пороге. Лиссабон сотрясается от землетрясений, содрогаются фундаменты, обрушиваются здания. В Москве — мор и пожары. Но Санкт-Петербург — новый город, свежая идея. Здешние жители собрались со всех концов мира и уверяют, что по-новому смотрят на мир. К какой же национальности относятся туземцы, истинно русские люди, а не эмигранты — гугеноты, швейцарцы, пруссы? Некоторые кичатся происхождением от благородных викингов, иные возводят свою родословную к славянским племенам. Но добрая половина — определенно восточные люди: татары и казахи, они говорят на странной смеси языков и пишут, если умеют писать, используя алфавит, занесенный сюда монахами одного средиземноморского монастыря. Философ уже начал записывать и совершенствовать его. Некоторых охотников за удачей занесло сюда из Европы, но другие — крепостные, пригнанные сюда императорским указом или приказом для поселения с сибирских равнин. Даже среди дворян попадаются совсем темные и тупые выходцы из дальних губерний: они оставили свои поместья, спасаясь от бесчеловечных законов на царской службе при дворе или в армии, и в конце концов всем им суждено сгинуть в изгнании, погибнуть в сражениях или от пьянства.
Много непонятного даже в среде придворной элиты. В Петербурге трудятся блистательные ученые, многоумные мужи. Придворный врач — доктор Роджерсон из Шотландии; величайший математик своего времени, одноглазый швейцарец Эйлер. Но и от них не добьешься правды. Не зря Эйлер однажды заметил: «Болтунов в этой стране вешают».
При дворе принято вести себя свободно и непринужденно — так предписано императрицей. Обходительность и приятность в общении — пропуск в высший свет. Богохульные речи Ее Величество строго-настрого запрещает. Почти ежедневно дают концерты, представляют пьесы, танцуют балет; придворные являются расфуфыренными, царица — в шелках и бриллиантах с ног до головы, а на щеках румяна неправдоподобно густым слоем. Но упаси боже увидеть оборотную сторону этого великолепия. За портьерами предаются бесстыдному разврату российские дворяне, рыцари чести, понятия не имеющие об этой добродетели. Для шлюх, украшающих постельный досуг господ офицеров, генералы требуют специального снабжения. Прелюбодеяние — почти обязательный дворцовый обычай. Слуги — все сплошь доносчики. Тайная полиция держит страну и двор в страхе и трепете и составляет списки кандидатов в казематы Петропавловской крепости и на поселение в Сибирь.
Но что делает здесь наш герой? Зачем он здесь? Доверие Ее Величества он, похоже, завоевал. Она уважает его независимые манеры, наслаждается полетом его ума. Она смирилась с его причудами и не выказывает негодования, когда он спорит с ней — сердито, непочтительно и самозабвенно. Она огрызается на его колкости, кусая за пятки, словно маленький веселый терьер. Она превращает их беседы в изящное амурное состязание умов, очаровательный философский флирт, и длится это часами. Почти каждый день до самого обеда он не покидает императорскую библиотеку, а в это время за портьерами ждут, обсасывая пикантные новости и накачиваясь неизменной водкой, недовольные дипломаты и просители, ждут, когда царица расстанется с Философом. Но чего ждать ему? Все это напоминает любовную интригу; самодержица и уклончива, и настойчива, то куртизанка, то робкая девица. Она зазывает его в свою спальню, удобно укрытую за библиотечными дверями, а затем, вежливо сославшись на государственные интересы, захлопывает дверь у него перед носом. Небольшое усилие и… Хочет она его или нет? Настаивать или нет? Нравится он или нет? Кто знает? Не он, во всяком случае.
Как-то раз по дороге во дворец он немного свернул с пути и зашел в Исаакиевский собор — украшенную колоссальных размером куполом и вообще очень необычную постройку, которая беспрерывно перестраивается, еще с тех пор, как Петр Великий объявил ее своей личной церковью. Первая, деревянная, простояла недолго, и чуть в стороне возвели новую, каменную. Но даже после очередного ремонта храм выглядит полуразрушенным; наверняка его снова перестроят — так уж записано в небесной Книге Судеб. Чудной город! Куда ни пойдешь, повсюду разрушения, обвалы. Наш герой смотрел на византийские образы, позолоченные Царские врата, темные лики святых с печальными глазами, вход в святая святых, в алтарь — символы веры, в которую он почти что обратился в этой стране. Странная религия, странный собор, бесформенность, стремящаяся вопреки всему стать формой. Наводнения и землетрясения сформировали этот город, потому он размыт и раздроблен. Проемы окон зияют пустотой, колонны отказываются стоять прямо, твердая материя растворяется в воздухе…
Это напомнило Философу истину, осознанную им однажды за статьей о парижской живописи и архитектуре для журнала Мельхиора Гримма. Правильно спроектированное прекрасное здание — это внутренняя гармония всех частей, дополняющих друг друга в соответствии с правилами пропорции и арифметики. Он тогда припомнил гениальный пример: Микеланджело, собор Святого Петра в Риме. Мастер в поисках совершенной формы идет по линии наименьшего сопротивления — и находит искомое. Пропорции собора — единственный выигрышный номер, вытянутый из бесчисленного числа математических комбинаций. Разум творца высвобождает мощь, уже заключенную в материале; в лучших творениях математиков, часовщиков, ножовщиков, столяров и плотников искусство и ремесло, природа и гений сходятся в одну точку. Лежащее за пределами животных инстинктов доступно Разуму, Прогресс опережает Историю, а Искусство стремится вперед и выше, к Идеальному Строению.
Сейчас, разглядывая Христа Пантократора на полуразрушенном своде купола, он думает о Жаке Суффло, парижском архитекторе. Ему заказали проект церкви Святой Женевьевы, новой церкви для мыслящего по-новому поколения (потом она получит новое, римское, имя — Пантеон). Сейчас храм уже возвышается над улицами Парижа, и скоро дело дойдет до купола. Суффло мечтает о нем: легком, строгом, рискованно-новаторском. Враги насмехаются над ним, говорят, что здание обязательно упадет. Перед отъездом из Парижа Философ посоветовал архитектору: «Помни, что вдохновляло Микеланджело: уверенность в себе и чувство линии. Всю жизнь он чинил то, что разваливалось. Изучал, как установить баланс и как уберечь потолок от падения. Тот же инстинкт помогает строителю ветряных мельниц находить правильный угол вращения, плотнику — мастерить крепкий стул, а писателю — находить форму для выражения своих мыслей. Инстинкт вырывает нас из тьмы и возносит к свету».
Но в Петербурге истина иная и Бог иной. Всю жизнь Философ спорил и бранился с Ним, как со старым знакомым. Но тот Бог говорил по-французски. А здесь Он объясняется на странных наречиях и принимает странные обличья. Отовсюду глядят с образов нарисованные лица Его бесчисленных святых и апостолов. Его священники и епископы — вот один из них приложился к иконе — бородатые фанатики. На мусульманского муллу такой поп похож больше, чем на католических аббатов и монахов, которых Философ знает как облупленных: хитрые, лицемерные прелаты вроде родного его брата; изощряются, угождая разом Богу и королевскому двору, в погоне за почестями и славой. Здешние напоминают шайку разбойников, к близкому человеку такого священника поздней ночью, пожалуй, и звать побоишься. А староверы — те для французского рассудка и вовсе непостижимы. Стоит приподнять легкий покров просвещенности — из-под него полезет дремучее суеверие. Духи и видения бродят толпами. Последний царь (может, он и вправду пал жертвой геморроя), померев, немедленно воскрес и начал являться то монахам, то бабулькам, мирно собирающим хворост в лесах. Мелькал то тут, то там по всей бескрайней державе. И везде лже-Петр Третий был принят с распростертыми объятиями. Не успевали затравить и изловить одного самозванца, его место занимал следующий…