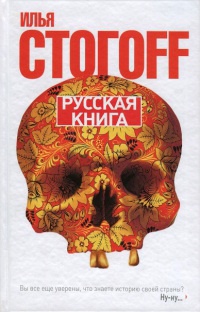Конечно, надо было соглашаться. Но он все тянул, все раздумывал невесть о чем. Даже если бы его самого спросили – о чем ты думаешь, он бы, скорее всего, не знал, что ответить. А все потому, что не думал, думать было тяжело, трудно. Он просто длил существование – и вечным немым упреком глядела на него из террариума куча костей, покрытых бурой кожей.
С каждым днем базилевс все больше проводил во сне. Да и не во сне даже, а в какой-то смертной полудреме, в которой он был вараном, а варан был им.
«Видимо, так и присоединяются к великой цепи, – думал он иногда, встряхнувшись от своего оцепенения. – Постепенно переходят из жизни в сон. Сначала еще просыпаются иногда, потом все реже и реже и, наконец, в один прекрасный миг не просыпаются вовсе…»
Надо было бы испугаться, исполниться ужаса от этой мысли, но сил не было даже на это – ни душевных, ни физических. В один прекрасный день, когда базилевс по привычке дремал за своим огромным столом, в кабинет вошел Мышастый. Вошел без стука, как к себе самому: после давешнего побега кабинет потентата не закрывался на ключ, к нему могли войти, даже когда он сидел на горшке, – тяжелая плата за власть, точнее, за ее отсутствие.
Базилевс приоткрыл один глаза и безразлично посмотрел на триумвира. Он с трудом вспоминал, что может быть нужно от него этому человеку. Мысли ворочались медленно, затихали, снова пытались приподняться и падали. Но он все-таки вспомнил.
– Я, – сказал базилевс, трудно ворочая языком, – еще не решил. Я еще думаю.
– Я не за тем, – отмахнулся триумвир, – я по другому делу.
И повернулся к двери. Обе дубовые створки раскрылись настежь, и два хранителя ввезли на каталке большое тяжелое тело. Оставили его посреди кабинета, а сами вышли вон. Базилевс смотрел на тело без интереса, смутно, не узнавая. Но тело открыло рот и простонало чуть слышно:
– Максим… Максимушка…
«Зачем его привезли сюда, – подумал базилевс с какой-то странной, удивившей его самого тревогой. – И кого он зовет?»
– Максимушка, дорогой… – слезливо повторило тело.
И тут базилевса словно молнией ударило. Он узнал и голос этот, и неподвижное тело, и узнал даже свое собственное имя, которое произносилось тут вслух. Перед ним – о господи, не может этого быть! – перед ним лежал Грузин. Настоящий, живой Валерий Витальевич Кантришвили. Грузин, которого похоронил он давным-давно, которого оплакал и забыл, это самый Грузин лежал теперь перед ним на каталке и звал его, звал голосом жалобным, слабым, но таким знакомым, живым, настоящим.
Базилевс поднялся со своего кресла, все еще не веря глазам сделал шаг вперед, потом другой. В глазах его двоилось от волнения и сонливости, он не мог сфокусироваться, понять, точно ли перед ним старый Швили или это очередная дьявольская шутка триумвиров. Но зачем понадобилась бы им такая шутка?
Нет, все-таки не шутка, перед ним на самом деле лежал Грузин.
Но ведь этого просто не может быть. Ведь он видел своими глазами, как его убили, как вошли в его большое сильное тело две маленьких гладких пули, он сам держал его холодную, бездыханную руку, просил не уходить, остаться, послушать его… Так что же получается, Грузин послушал, остался, не ушел?
– Валерий Витальевич, – сказал он неуверенным голосом, – Валерий Витальевич, это ты?
Грузин заплакал, по неподвижному лицу текли медленные старческие слезы.
– Видишь, я теперь какой, – говорил он невнятно, язык не очень-то ему подчинялся, – совсем никуда не годный. Только и осталось, что на помойку меня выбросить.
– О чем ты, Валерий Витальевич! – Буш, успокаивая, гладил его холодную, бледную руку. – Не говори так, не надо.
– Асланчика убили. – Кантришвили, недавно сильный, мощный, непреклонный, плакал теперь, как старик, не мог остановиться. – Совсем убили, а меня только наполовину. До груди парализовало, доктор сказал, всю жизнь так лежать буду. Да и сколько той жизни. Ах, Максимушка, да разве думал я, что такое со мной сотворят? Я ведь только помочь тебе хотел, ты ведь мне вместо сына…
Смутный упрек почудился Бушу в этих словах, что-то кольнуло его в сердце.
Внезапно подал голос Мышастый, о котором как-то забыли. Голос этот был неприятный, жесткий, скрежещущий.
– Вместо сына, говоришь? А кто предал высочайшего, когда он пришел к тебе просить убежища и защиты? Кто стуканул на него Хабанере, скажешь, Пушкин? Или, может, Лермонтов, Гоголь, Тургенев – кто?!
Буш посмотрел на разгневанного триумвира с удивлением: о чем ты?
Губы на бледном лице Грузина задрожали, потом замерли.
– Я… я не сам. Я не хотел. Мне угрожали… Я не думал. Прости меня, Максимушка. Прости… Спаси и помилуй!
Буш ужаснулся. Не от отчаянного вида Грузина, не от беспомощного его состояния, а от этих слов – спаси и помилуй. Грузин обращался к нему в последней надежде, обращался, как к Богу, как будто подлинного Бога уже не было, окончательно он покинул эту землю и этих людей.
И ему стало страшно, страшно, что он не сможет спасти ни Грузина, ни других, никого, никого! Что же тогда вся жизнь его, зачем он отдал ее, зачем предался дракону власти, если даже единого человека спасти не в силах? Но нет, нет, постойте, ведь он же врач, он гений, это миссия его, именно это, а не какие-то там мировое господство и слава! И пусть он от смерти спасти не может, но от болезни, от хвори, от раны наконец…
Он лихорадочно думал о грузиновой ране. Что это может быть? Вялый паралич? Но периферический нейрон не задет, голова ведь цела… Влияние послераневой опухоли? В мозгу всплыл параграф учебника: «Паралич при ранениях и переломах может возникнуть при нарушении двигательных проводящих путей и центров…» Не работают ни руки, ни ноги. Тетраплегия, очевидно, синдром Броун – Секара. Шейный отдел позвоночника, спинной мозг. Bellis perennis, что ли, на первых порах… Черт, да что он гадает! Наверняка без операции не обойтись.
– Какой диагноз? – спросил он, но не у Грузина, конечно, откуда тому знать, а у Мышастого.
– Что? – искренне изумился тот. – Диагноз? Ты что, лечить его собрался?
– Конечно, собрался, – не понял Буш, – а как иначе?
Мышастый только головой покачал.
– Потентат, ты не слушал меня, что ли? Этот человек предал тебя, понимаешь, предал. И судьба его за это наказала. Не ты, не я, а сама судьба.
– Да и черт бы с ним, что предал, – отмахнулся Буш. – Ерунда это все, главное, что жив.
Он посмотрел на Грузина, тот дрожал, но он успокоил его взглядом, потом, видя, что этого мало, еще и словами сказал:
– Ты, Валерий Витальевич, держись, ничего. Мы тебя вылечим, обязательно. Вот посмотрю заключение хирургов, анализы сделаем, томографию…
Мышастый поднял руки, как бы сдаваясь.
– Ладно, черт с тобой! Все я понял. Ошиблись мы, уж извини. Внешне уж очень подходил, но внешности недостаточно. Не быть тебе базилевсом. Свойства души нужны особые.