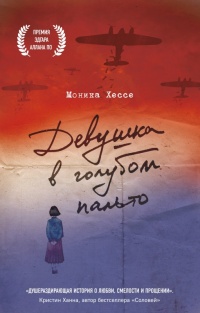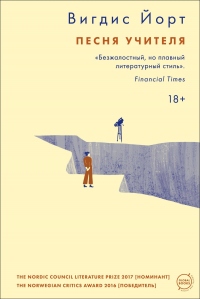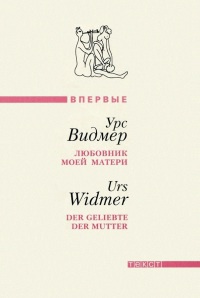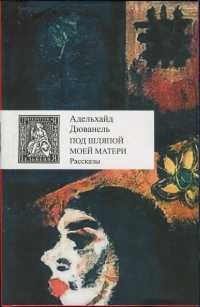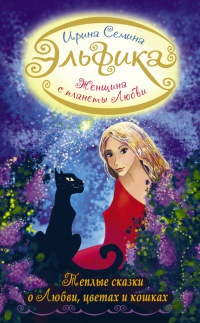Но она была не одна. Ее сопровождал давний знакомый — ему можно было доверять, от него исходила притягательная сила, вполне соответствующая обстоятельствам. Он не приставал к ней с ненадежными планами дальнейшей жизни, но лишь смеялся над столь бессмысленным стремлением, он ничего не спрашивал, ничего не требовал… и желал только одного — чтобы она ему не сопротивлялась. Анна, не оглядываясь, покинула палату, прихватив с собой чемодан с детской одеждой. Словно под гипнозом, она вышла на улицу и направилась к реке. Дунай чернел в ночи. Она колебалась: если прыгнуть с берега, она не сможет удержаться, чтобы не поплыть. Она встала посередине барочного моста. «Я обещала тебе этого не делать, — бормотала она, — прости меня». Слова растворились в шуме дождя. Вода под мостом сулила покой. Она подняла чемодан на парапет, достающий ей до плеча, и попробовала подтянуться. Но замшелые камни были сырыми и скользкими — она не смогла ухватиться за край и внезапно почувствовала слабость в руках, которые еще никогда ее не подводили. Она попыталась еще раз и еще… но всякий раз соскальзывала вниз. Она отказывалась сдаваться — как могли столь банальные вещи, как перила моста, препятствовать решению вопроса жизни и смерти? Она в отчаянии схватила чемодан и швырнула его в реку. То, что годилось для чемодана, должно было сгодиться и для нее. Но парапет был повсюду одинаково мокрым и гладким. Наверху смеялись над ее нелепыми попытками: всегда решительная и расторопная, Анна оказалась такой жалкой неумехой в собственном самоубийстве!
Она выкинула белый флаг и, спустившись с моста, зашагала обратно в семинарию. Она распрощалась со своей жизнью, утопив ее в Дунае вместе с чемоданом, — осталось лишь тело, которое продолжало функционировать по инерции. Она вернулась в палату и отрешенно ждала, пока наконец не прекратится это ожидание. Но прекратился только дождь. Она равнодушно посмотрела в окно и увидела, что небо расчищается. Она не имела понятия о времени, где-то в бесконечной ночи раздался стук в дверь. Она сонно притащилась в коридор. Гости, казалось, спешили, двери резко распахнулись.
— Где тут лазарет? — нетерпеливо кричали санитары СС.
— Какой лазарет? — спросила Анна.
— Здесь должен быть лазарет!
— Не знаю, можно ли его уже так назвать, — с сомнением сказала Анна, — меня должны были сменить, но никто не…
У них не было времени ее слушать, фронт приближался, им надлежало разгрузиться и мчаться обратно. Сломя голову они уложили раненых по обеим сторонам коридора и забрали носилки с одеялами для следующей партии. Не успела она толком вникнуть в смысл происходящего, как их уже и след простыл. Она принялась расхаживать взад-вперед между рядами тяжело раненных солдат, которых было около сотни. Мальчики, еще несколько часов назад доблестно сражавшиеся на поле боя, лежали голыми на каменном полу в шахматную клетку. Их жизнь сводилась к записи, свидетельствовавшей о виде сделанной им операции. Проникая через высокие готические окна, лунный свет падал на их безжизненные и патетически молодые тела. Романтическая луна, святой заступник влюбленных, беспощадно освещала их наготу, руководствуясь некой извращенной эстетикой. Доведенная до отчаяния, Анна беспомощно металась из угла в угол — ей оставалось лишь стать свидетельницей их гибели. С каждым умирающим солдатом росло ее отвращение к феномену войны. Все, что ей довелось испытать прежде, было лишь прелюдией. Забота, воспитание, жертвы безымянных матерей, мечты и ожидания — все было уничтожено абсурдной, преждевременной смертью… Сын, жених, отец — не более чем голый, окоченевший, лишний предмет, картотечный индекс.
К ней обратился солдат.
— Schwester…[96]— прохрипел он.
Анна склонилась над ним. Он взял ее за руку, его глаза блестели.
— Сестра, мы ведь еще держимся!
— Да, мой мальчик, — кивнула Анна.
Он хотел еще что-то добавить, открыл было рот, но — окаменел. Невысказанное замерло на губах, тело онемело, а застывшее выражение упрямой страсти было столь невыносимым, что Анна поспешно закрыла ему глаза.
Рассвело, в лучах тусклого утреннего солнца покойники окрасились в серый цвет. И снова распахнулись двери, в семинарию ворвались санитары и врачи. Они наспех огляделись кругом и, похоже, не удивились ничему, разве что присутствию Анны. В нее впились все взгляды, словно она была привидением.
— А что вы здесь делаете? — изумленно воскликнул один из врачей, теребя рыжие усы. — Вы что, с ума сошли, русские на подходе!
— Ну и что? — сказала она безучастно.
На следующий день здание кишело энергичными медсестрами Красного Креста. Откуда они взялись, Анна не знала, она уже давно перестала пытаться что-либо понять. Внезапно вновь наладилась работа, каждый выполнял свои обязанности. Но она больше ни во что не верила — это была всего-навсего личина, маскирующая полный кавардак, который в любой момент мог одержать верх. Возобновились и совещания. Адъютант гауляйтера созвал всех врачей, санитаров и медсестер для получения инструкций от своего начальника.
— Гау «Верхний Дунай» держит свои позиции, — объявил гауляйтер. — Мы все остаемся на местах при любых обстоятельствах. В том числе и медсестры. У них нет ни малейших оснований бояться русских, их безопасность в этом госпитале гарантирована.
Анна, стоявшая в группе медсестер и скептически внимавшая его успокаивающим словам, сделала шаг вперед и крикнула:
— Своих-то жен и дочерей вы наверняка эвакуировали, а?
Медсестры оттащили Анну назад, стараясь сделать незаметной среди женщин в одинаковых халатах.
— Кто это был? — резко спросил гауляйтер.
Он приказал своим людям допросить всех медсестер, но те молчали, сомкнув ряды.
После совещания рыжеусый врач отвел Анну в сторонку.
— Послушайте, сестра, — сказал он доверительно, — у меня здесь четверо раненых, у которых перебинтованы только руки, — они мобильны. Я собираюсь дать вам и двум другим сестрам приказ сопровождать их до Мюнхена.
Анна машинально кивнула. Разумеется, ведь она привыкла подчиняться, пусть на этот раз ей и досталось приятное поручение — покинуть семинарию.
— Да, кстати, — он почесал карандашом за ухом, — вы тоже слышали вчера ту женщину: «Своих-то жен и дочерей вы наверняка эвакуировали, а?»
Врач бросил на нее хитрый, но в то же время такой щенячий, преданный взгляд, что Анна ответила тоном, подразумевавшим признание:
— Да, слышала.
И тут стало понятно, почему он отправлял ее в Мюнхен. Не в состоянии открыто произнести слова благодарности, она выражением лица дала ему понять, что догадывается о его мотивах.
— Звучит, как из прошлой жизни… — пробормотала Анна.
Лотта не сводила с нее глаз. В лице, открывшемся ее взгляду, она впервые рассмотрела ту молодую женщину, о которой рассказывала Анна, — на мосту под дождем, в коридоре с умирающими солдатами. Это растрогало ее больше, чем она могла себе позволить. Изо всех сил стараясь звучать рассудительно, она сказала: