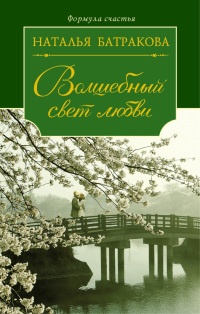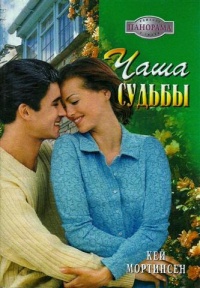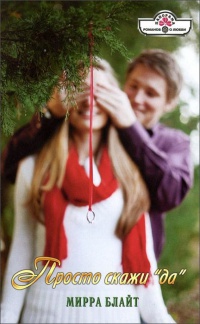Когда ты – всего-то часть целого, общего организма, ты знаешь, где и что болит.
Пять лет назад Мирош тешил себя иллюзией, что ее боль – будет слабее его, если она ничего не узнает. Обманывая и предавая, полагал жизнь – тысячей дорог, среди которых можно выбрать ту, по которой легче брести. И она должна была пойти по правильной – без него, как бы ни было ему страшно остаться на своей в одиночестве.
Иван ошибся. Нет такой дороги. Есть всего одна. У нее к нему, а у него к ней. Просто однажды их разметало по разным ее концам и понадобилось пять лет, чтобы сойтись снова в той точке, в которой нестерпимо болит.
Эта точка – под дверью ее квартиры в полуночной тишине. Судьба у него такая. Стоять перед ее дверью, не смея стучать. Но в наших подъездах, в отличие от коридоров берлинских отелей, хотя бы курить можно. И рано утром, когда он встретит на лестнице По?лину мать с дорожной сумкой, та, впитывая дыханием запах его сигарет, поймет все без слов. Как поймет и он.
Они сыграли тогда по-крупному. Они проиграли. Их не простят.
Ванька почему-то только сейчас подумал, что сам бы не простил такого предательства. Никому. Никому на свете, кроме, наверное, Поли, преданной им.
Мирош отвез свою несостоявшуюся тещу или несостоявшуюся мачеху – кто теперь разберет – на вокзал. Они почти не говорили в салоне его машины, не потому что не о чем было, а потому что слишком много всего – захлебнулись бы. Только напоследок, на перроне, она тихо всхлипнула, как годы назад, и сказала ему: «Прости, что мы не остановили тебя тогда. Мы должны были».
Но Иван всегда сам принимал решения. И сам за них отвечал.
На следующий день после этого объяснения группа «Мета» свалила в свой прерванный гастрольный тур, а когда вернулась из первой же поездки, Полины в Киеве не оказалось – ведомый бесконечной жаждой хоть издали ее увидать, он то и дело оказывался на Оболони. Машина стояла на своем законном месте, окна вечерами тускнели, как и уходящие дни, свет в них не вспыхивал. И Ваня отключился. В нем перегорели какие-то жизненно важные провода – он был обесточен. Нельзя до бесконечности искрить, расплавляя сердцевину. Когда-то все равно станешь горсткой пепла, а едва ли пепел способен чувствовать.
Потому опасения Фурсы и Марины казались ему смешными и совершенно напрасными. Только две вещи его хоть немного еще трогали: ночевка в отцовской квартире и то, что Поле где-то там больно. Но как он не захотел разделить эту боль на двоих, так и она не стала.
Они добрались до элитного дома, где жил Мирошниченко-старший, к вечеру. Но сперва слонялись по городу, как когда Мирош и Фурса еще учились в школе. Вернее, слонялся Иван. Не было у него цели куда-то сегодня прийти. Он охотно общался с людьми на улице, когда те их узнавали. И давал автографы, приглашая на большой концерт в Киев. У Дюка они кормили чаек. И все это было пустыми телодвижениями, делаемыми по инерции. Мирош точно знал, что тянет все только ради Влада и ребят – группу, тур, интервью. Даже этот променад сыграет на имидж, когда десятки фотографий, которые с ними сделали фанаты за день, запостят в Инсте. Сам он фотографировал на телефон море с парапета Потемкинской лестницы, наблюдая себя будто со стороны.
И на кухне отцовской квартиры, пекущий блины из купленных в ближайшем супермаркете продуктов, он тоже был наблюдателем, изображавшим веселье. Они тут сидели тогда. С Татьяной Витальевной они сидели тут. Сюда он прошел к ним из комнаты, в которой умер. Неудивительно, что их голоса из памяти вымылись. Если собрать все брызги, получится лишь пригоршня воды.
Дальше – Харьков. Вот о чем думать надо. И о Владе, не сводившем с него наблюдающего взгляда. Носится с ним, как с ребенком. А у самого Славка, которая сдала сессию и ждет в Киеве. Тоже – чем не ребенок?
Они ужинали под «Нирвану», как в старших классах, только вместо стряпни Веры Генриховны была Ванькина. Снаружи, затарабанив по стеклу, будто бы просясь в дом, пошел дождь. Резкий, порывистый, какими бывают ливни на юге, у моря, и каких не дождешься на севере, где текут реки. Там все чужое. Но что оставалось родным здесь?
И кто скажет, что он не живет? Вот, пожалуйста. Заваривает чай. Водка под блины не пошла. Не то настроение. А для чаю – в самый раз.
А потом они, разложив на полу ящики со всякой всячиной, собранной по дому, постепенно укомплектовывали коробки с тем, что сочли имеющим шансы пригодиться. И мешки с тем, что требовалось выбросить или отдать кому. Наверное, попроси Иван Милу – она бы с радостью согласилась. Но все в нем противилось тому, чтобы впускать ее в эти комнаты, где отец провел последние годы жизни, куда он ушел от нее.
Иван и сам ушел. Вычеркнул себя. Он о многом мог забыть, на многое – забить. На ее эгоизм, на ее нелюбовь, на ее злые слова, бросаемые ему в моменты, когда правда вырывалась из нее вспышками неуправляемой энергии. Но он не мог забыть того, что она сделала Полине. С тех пор, как узнал, – тему закрыл для себя навсегда.
Потому все просто. Одежду в этот мешок. Барахло – в тот. Книги… книги пусть стоят на полках.
- А это куда? – спросил Фурса, показавшись из кабинета с очередной кипой бумаг в очередном ящике, извлеченном из бюро. Вот бумаг они выбросили немерено.
- Бюрократ несчастный, - беззлобно усмехнулся Иван. – Ставь на пол, разбираться будем. И наверняка же ничего полезного…
За этим самым разбором бесполезного Влад и уснул в кресле, пока Мирош раскладывал документы по стопкам. Лист за листом.
То, что дела у отца были приведены в порядок, он понимал. Адвокат на той злополучной встрече оговаривал, что Мирошниченко-старший готовился к отходу от дел основательно, до последней мелочи. Потому в квартире едва ли могло сохраниться хоть что-то важное. И так оно и выходило.
Немыслимое старье – давно неактуальные документы совковой действительности, фотографии прабабок-прадедок, дипломы, награды, дурацкие грамоты – за учебу и за соревнования по гражданской обороне. И среди всего – собственное свидетельство о рождении. Свидетельство о рождении Ваньки. Дедова настольная медаль за третье место в таллиннской спартакиаде – он греблей баловался по молодости. Метрическая на прадеда, того, который якобы немец. Удивительная, еще дореволюционная купчая на землю на имя этого прадеда. Не отец – крот. Рыл, рыл, рыл – нарыл. Иван только усмехался себе под нос, под Фурсовский храп. Вот, чем бывший мэр, по всей видимости, стал увлекаться, когда ушел из политики. Полез корни искать. Когда побегов зелени не предвидится, начинаешь рыться в земле. Впрочем, у него-то с побегами нормально. Есть же мелкий Штофелёныш.
Свидетельство о браке с маман – 1989 года. Свидетельство о разводе – 2014-го. Исковое заявление о расторжении брака. Пакет документов в той же папке. Все вместе большой скрепкой подколото.
Несколько мгновений Иван внимательно рассматривал эту писульку, отпечатанную на тонкой пожелтевшей бумаге – явно печатной машинкой. И тщетно пытался въехать в то, что это значит. Древнее же совсем. Явно не в четырнадцатом подавалось.