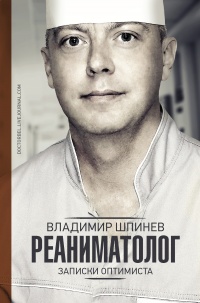— Я знаю такие мечты, они проходят долго, как раны от ожогов.
— Как опухоль на голове!
— Их место должны занять новые мечты.
— Должна появиться новая женщина, тогда старую смоет, как отпечаток листа.
— Покажи мне отпечаток листа, баба Илиас.
— Именно это я имею в виду, каменная ты голова, воспоминание о женщине вдруг становится таким мимолетным, как отпечаток листа.
— С тобой что-то не в порядке, баба Илиас, ты должен постоянно объяснять, что именно ты хотел сказать.
— Все дело только в слушателе, баба Юзуф. Кто не хочет понять, тот спотыкается о собственные вопросы.
— Подойдите ближе, братья мои, подойдите ближе. Салим пошел спать, и угрозы, какие порой сыпятся на нас, умолкли, неизвестно по какой причине, и мы должны порадоваться удаче, пока возможно. Среди вас нет ни единого человека, которому неизвестно, что из моего первого путешествия я вернулся с женщиной, с молодой женщиной, в какую я влюбился с первого взгляда, как увидел ее, у реки, где она с другими женщинами деревни стирала наши вещи. Утро благоухало проснувшимися растениями, цветами в росе, и мне было нечего делать, у меня не было работы, и мои ноги понесли меня к реке кружными путями, я продирался сквозь кусты и вдруг очутился у воды, а недалеко от меня оказались молодые женщины деревни — они, согнувшись, били одеждой по лежащему в воде камню, плоскому, как стол. Я говорю, женщины из деревни, но на самом деле имею в виду лишь одну женщину, завладевшую моим взглядом. Я не видел ее лицо, но то, что я видел, так обрадовало меня, что хотелось смотреть так долго, сколько возможно. Я не двигался, я уставился на эту женщину, ее тело блестело от капелек воды, где веселились шаловливые лучи утреннего солнца, ее кожа была темна, так же темна, как моя, и ее движения были сильными и крепкими, как и мои в ту пору. Долго стоял я у берега, захваченный видом этой девушки, пока не решился подойти ближе. Я не сообразил, что девушки меня не заметили, и удивился, когда первая, увидев меня, издала резкий крик, и все остальные завертелись в воде, как рыбы, что стараются ухватить кусок еды. Я остановился, мои руки пытались извиниться, женщины оборачивались, чтобы разглядеть меня, и отворачивались, чтобы спрятать наготу, они были взволнованны и испуганны, а девушка, в какую я влюбился, вела себя скромно, но смотрела прямо на меня улыбающимися глазами, и в этом взгляде лежала самая главная задача моей жизни. Мне хотелось теперь навсегда видеть эти глаза, и не только, мне хотелось теперь навсегда обладать девушкой со смеющимися глазами. Ты кто, спросила меня одна из старших девушек. Я — Сиди Мубарак Бомбей, ответил я, вождь каравана. Ах, сказала молодая женщина, в какую я влюбился, значит, это твои вещи мы тут стираем? И она высоко подняла штаны, которые как раз были у нее в руках, и помахала ими, все девушки рассмеялись, и я рассмеялся вместе с ними, потому что я не мог сделать ничего иного и потому что смех делает человека красивее, и мне нужно было придать моему изношенному лицу столько красоты, сколько возможно. Такого я не ношу, ответил я, когда смех истощился. Так-так, крикнула другая девушка, значит, ты не особенно важен, тебе нельзя носить господские вещи. Они неудобные, запинаясь, сказал я. А что же ты носишь, человек с побережья, спросила девушка, в какую я влюбился. Платок, подобный этому, а когда холодно и по праздникам я надеваю канзу. Тогда, может, я стираю для тебя, крикнула другая девушка и высоко подняла канзу. Я благодарен тебе, сказал я, даже если это, может, и не мое канзу. Давай поменяемся, предложила девушка, в какую я влюбился, они обе скомкали одежду и бросили друг другу, а крики и смешки других девушек слились в бурный шум, из которого я был исключен. Проверь вначале, подходит ли вообще это ему, крикнула другая девушка. И моя девушка развернула канзу и протянула его ко мне на вытянутых руках, разглядывая меня поверх воротника. Я не могу так оценить, крикнула она. И крики других девушек вымочили меня насквозь, как густой ливень, я не мог различать их, так много криков, воспламенявших и подстегивавших меня. Подойди к ней, слышал я, или ты боишься, слышал я, дай тебя измерить, слышал я, да он воды боится, слышал я, и вдруг я оказался перед девушкой, в какую я влюбился и которая держала в руках белое канзу. Я постарался улыбнуться, но вдруг молодая женщина завыла, болтая языком, как это делают люди в тех местах на похоронах, и смех со всех сторон забушевал сильнее, когда она самым громким своим голосом крикнула: ах, какой маленький. И правда, я и не заметил, она была выше меня, несколько выше, и раз канзу доходило ей почти до носа, это не могло быть мое канзу, и мое сердце съежилось, потому что как было бы прекрасно, если бы она протягивала мне мое канзу. Ты осторожней, крикнула другая девушка, еще потеряешь его в этом канзу, и смех уже стал водопадом, стал буйным потоком. Но девушка, стоявшая передо мной, не особенно красивая девушка, нос чуть кривоват и чуть длинноват, подбородок слишком острый, но такая, какой я еще ни разу не видел, с глазами как две резвые, бойкие и задорные антилопы дик-дик, эта девушка больше не смеялась, а задумчиво смотрела на меня, слегка наклонив голову, канзу скользнуло вниз, и взгляд, в котором мы запутались, был словно навес из пальмовых листьев, защищавший нас от ливня смеха. Так мы стояли, пока кто-то не крикнул, что пора вернуться к работе, и девушка, качая головой, отвернулась от меня, и все остальные разом повернулись ко мне спинами, и наклонились, чтобы вытянуть из воды одежду. Я не мог там дольше стоять, как будто я ива, мне нужно было уходить, хотя я мог бы еще часами смотреть на нее, на ту, в какую я влюбился.
Я вернулся в лагерь, медленно, мои мысли были словно на маленьком огне, так что и не вскипали, и не успокаивались, и я обнаружил, как плохо, что мне нечем было заняться в тот день в деревне. Куда бы я ни смотрел, я видел перед собой только молодую женщину, смеющуюся девушку со штанами в руке, потом с канзу в руке, ее серьезный взгляд, вдруг сменивший улыбку, и ее заднюю часть, я знаю, что говорю как юноша, который пока не научился обуздывать свой язык, но ее задняя часть прогнала из моей головы все мысли. Это было несчастье или это было счастье, зависит от того, спросите ли вы ее или спросите вы меня, зависит от того, когда вы спросите меня и когда вы спросите ее.
= = = = =
— Что ты пишешь?
Опять этот Спик. Заслонка палатки ему не помеха, чтобы вторгнуться и мешать. Не знает, чем занять время; сейчас опять начнет обсуждать проблему, которую себе со скуки выдумал. Я занят, Джек, документирую последний этап экспедиции.
— Чего там особенного можно описывать, — спрашивает Спик. Все выглядит одинаково, одна и та же монотонная подливка, без разницы, лес или степь. Люди еще скучнее, чем природа, они всюду выглядят одинаково, повсюду одинаково тупое выражение на лицах, зачем мы тратим время на рисование карты этой страны — белое пятно, вот наилучшее описание того, что нам здесь открывается.
Бёртон чувствует, что сыт по горло собственной сдержанностью. Он так и не научился следить за своими словами.
— Знаешь, Джек, меня должно было насторожить, что за десять лет в Индии ты не смог научиться ничему, кроме этого заикания на хиндустани. Нечего оправдывать слепоту, к которой ты сам себя приговорил. Именно люди — самое интересное в этой земле, ты еще увидишь, что именно учение о человеке станет наукой будущего для этого континента.