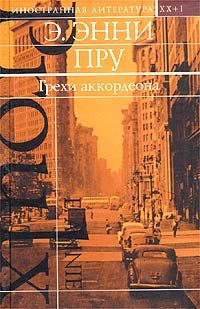Ознакомительная версия. Доступно 21 страниц из 104
Давно поняла: если не ее ружье подстрелит эту белку или глухаря, то найдется другой хищник, куница или лиса, кто задерет их день спустя. А через месяц или год хищник сам падет от болезни или старости, станет добычей червей, растворится в земле, напитает соками деревья, прорастет на них свежей хвоей и молочными шишками – станет пищей для детей убитой белки или задранного глухаря. Зулейха поняла это не сама – урман научил.
Смерть была здесь везде, но смерть простая, понятная, по-своему мудрая, даже справедливая: облетали с деревьев и гнили в земле листья и хвоя, ломались под тяжелой медвежьей лапой и высыхали кусты, трава становилась добычей оленя, а сам он – волчьей стаи. Смерть была тесно, неразрывно переплетена с жизнью – и оттого не страшна. Больше того, жизнь в урмане всегда побеждала. Как бы ни бушевали осенью страшные торфяные пожары, как ни была бы холодна и сурова зима, как ни свирепствовали бы оголодавшие хищники, Зулейха знала: весна придет, и брызнут юной зеленью деревья, и шелковая трава затопит выжженную некогда дочерна землю, и народится у зверья веселый и обильный молодняк. Оттого и не чувствовала себя жестокой, убивая. Наоборот, ощущала себя частью этого большого и сильного мира, каплей в зеленом хвойном море.
Недавно вдруг вспомнила про хлеб, похороненный на юлбашском кладбище меж могил дочерей. Подумалось: а ведь он не пропал тогда весь. Некоторые, пусть и редкие, зерна с наступлением весны проросли сквозь щели в деревянному гробу, остальные – хоть и сгнили, но стали пищей для молодых побегов. Представила, как нежная поросль пшеничных колосьев пробивается между кособоких могильных ташей, перерастает их, скрывает, кутает. На душе стало теплее и легче. Кто знает, заботится ли еще о дочках дух кладбища…
Она так и не поняла, водятся ли духи в урмане. За семь лет сколько холмов обошла, сколько оврагов исходила, сколько ручьев пересекла – ни одного не встретила. Иногда на мгновение кажется, что она сама и есть – дух…
Сначала Зулейха проверяет силки и капканы: на примеченной звериной тропе к Чишмэ; у большой полусгнившей ели, где едва заметно примята трава (видно, мелкому зверью ствол не перепрыгнуть, вот и бегают вокруг); у притаившегося в еловой чаще узкого, как щель, и глубокого озера с ледяной водой… Она обходит силки дважды в день, утром и вечером, чтобы пойманный заяц не попал в лапы хищнику. Затем поднимается вверх по Чишмэ, к болотистым оврагам – проведать излюбленные утиные места. Путь неблизкий, шагать – до самого полудня. Шагать и зорко смотреть по сторонам (каждый, кто встретится на тропе, в кустах или на еловых ветвях, может оказаться добычей) и – думать. За всю свою прежнюю юлбашскую жизнь Зулейха столько не думала, как за один-единственный день на охоте. За вольные охотничьи годы всю жизнь припомнила, по кусочкам разобрала, по щепочкам. Недавно вдруг поняла: хорошо, что судьба забросила ее сюда. Ютится она в казенной лазаретной каморке, живет среди неродных по крови людей, разговаривает на неродном языке, охотится, как мужик, работает за троих, а ей – хорошо. Не то чтобы счастлива, нет. Но – хорошо.
Ближе к середине дня, когда до утиных заводей остается всего полчаса ходу, мысли ее привычно сворачивают к опасной теме. Устала запрещать себе думать об этом. А не запрещать – можно додуматься до такого, что и представить страшно. Зулейха перекидывает ружье на другое плечо. Мысли – не речка, плотиной не перегородишь; пусть текут. Она часто вспоминает тот день на Круглой поляне, семь лет назад. Как из усыпанной черникой травы вырастают форменные черные сапоги, Игнатов садится перед ней на землю, тянет руку к ее платку… Она ведь тогда не его испугалась – себя: того, как мгновенно, от одного его взгляда, превратилась в мед – вся, без остатка, как потекла ему навстречу, ослепнув, оглохнув, забыв все, даже играющего неподалеку сына. И ружье целила не в него – в свой страх, в страх совершить грех с убийцей мужа. Грех не совершила – медведь помог.
Из столовой она скоро ушла, и обеды в комендатуру стал носить новый помощник Ачкенази. Игнатов с тех пор встреч с ней не искал. Все утекло, осталось в прошлом – как не было. Может, и вправду не было? Показалось? Но изо дня в день по опущенным игнатовским глазам видела – было. По тому, как внутри у нее что-то плавилось и таяло, когда поднимала глаза на комендатуру, – было. По тому, что думала об этом каждый день, – было.
Он скоро стал пить, и крепко. Зулейха терпеть не могла пьяниц. Думала, вот оно, лекарство: увидеть коменданта пьяным, глупым, озверевшим – сразу все мысли недостойные рукой снимет. Не вышло: при виде оплывшего игнатовского лица с красными глазами ей становилось не противно, а больно.
Когда в очередной партии новеньких он приглядел себе коротковолосую рыжую шалаву с острыми грудками и крепким задом, туго обтянутым материей слишком узкого платья и эта самая Аглая стала захаживать по ночам в комендатуру на огонек игнатовской папиросы, Зулейха решила: все, наконец, вот оно – кончилось. А кончилось ли?..
Она вскидывает ружье и палит в просвет между лохматыми еловыми ветвями. Пестрый рябчик кувыркается на землю, запоздало трепеща крыльями.
День пролетел быстро и выдался удачным: на поясе болтаются рябчик и пара уток (заветное утиное место не подвело, подарило Зулейхе изумрудноголового селезня с нарядными белыми щеками и увесистую черную самочку), в сумке за спиной – попавшийся в силки заяц. Она шагает по тайге домой размашисто, не таясь, хрустит ветками – охота закончена. Когда переходит Чишмэ по камням, прибрежные кусты взрываются – из них стремительно вылетает что-то маленькое, юркое. Зверок? Юзуф!
Зулейха распахивает руки. Он летит к ней, сверкая голенастыми ногами из-под коротких заплатанных штанов, обхватывает руками, вжимается головой. Она опускает лицо в макушку сына, вдыхает родной теплый запах.
– Я же запретила ждать меня здесь, улым. В тайге опасно.
Он лишь крепче зарывается в ее грудь, один затылок торчит да ухо-лопушок. Отругала бы его крепче за то, что опять нарушил ее запрет, да не может – сама рада, что пришел, что есть у них это короткое время, когда можно спокойно, не торопясь, словно впереди – вечность, идти вдвоем по тропе, касаться друг друга, слушать птиц, беседовать или молчать. Больше таких уединенных минут сегодня не выдастся: сразу по приходе Зулейха будет мыть лазарет, а Юзуф – помогать матери: таскать воду из Ангары, жечь во дворе мусор…
– Ты сыт?
– Меня доктор накормил.
Юзуф называл Лейбе доктором, как и Зулейха.
Он расцепляет руки, отпускает мать. Ему скоро восемь, а высокий какой, уже выше ее плеча (если и дальше так быстро расти будет – опять придется рукава куртки наставлять, а брюки – распарывать, выпускать). Голова лохматая (Зулейха не брила его наголо, как было принято в Юлбаше, – зимой волосы согревали, как вторая шапка), носик острый, глазищи большие. Ростом и статью в отца пошел, а лицом – в нее, сразу видно.
Юзуф важно берет ее сумку, перекидывает через плечо, обхватывает руками, тащит (был бы рад и ружье материнское носить, но Зулейха не давала); пальцы с обгрызенными ногтями перепачканы желтым и синим.
Ознакомительная версия. Доступно 21 страниц из 104