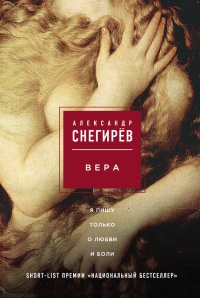Ознакомительная версия. Доступно 22 страниц из 107
Но после капитуляции мы хлебнули настоящей бедности. Устроиться на работу Давид теперь при всем желании не смог бы. Я перебивалась случайными переводами с китайского и продавала вещи – пустяковые, рубинов у меня не осталось. Жить мы переехали в крошечную квартирку за Площадью Италии. Там я и приготовила наш последний завтрак…
Нет, это невыносимо! Теперь они затеяли игру: звери на водопое. Девочка уже не ревет, а пищит и улюлюкает. Господи, ну что он вытворяет? Как будто не знает, что мне нужно спешить! И каша уже холодная. Можно подумать, этот рис доставал он!
Я сердито иду по коротенькому коридорчику, распахиваю дверь ванной. Давид с засученными рукавами, в забрызганной рубашке смотрит на меня с оживленной улыбкой. Он очень красивый. Я не могу на него злиться.
– Каша остыла, вытирай ее и марш на кухню, – говорю я и протягиваю полотенце к светящемуся облачку, которое колышется возле умывальника.
Девочки я не вижу. Однажды я взяла и стерла из памяти всё с нею связанное, и теперь, даже если очень захотела бы вспомнить, не получится. Так выскабливают с фотографий лица людей, которых нужно забыть.
Для того чтобы не сойти с ума, мне пришлось решить, что о дочке я думать не буду. Никогда. Я так долго запрещала себе мысленно произносить ее имя, что забыла его. Действительно забыла. Вытеснила в дальние подвалы памяти, ключ от которых навсегда затерян. Если девочка и мелькает в моих воспоминаниях, то расплывчатым пятнышком света, невнятным эхом звонкого голоса, и слов разобрать невозможно.
Мать из меня получилась так себе. Все родительские обязанности я выполняла, но мужа любила сильнее, чем ребенка. Дочка была для меня средством получше привязать к себе Давида, частью стратегии по его приручению. Паучиха придумала завязать еще один узелок в своей паутине, чтобы мотылек уже никогда не выпутался. Известно, как отцы млеют от маленьких дочек, поэтому я хотела именно девочку, и она родилась. Всё получилось, как я рассчитывала. Малютка лепетала, Давид таял, начал проводить дома больше времени. А с тех пор как в оккупированном городе ходить ему стало некуда, они уже просто не расставались.
Часами напролет они ползали по полу, играя… Господи, во что же они играли?
Не помню. Я ничего не помню. И хорошо, что не помню.
Сначала девочки не было, потом она была, потом исчезла. И точка.
Всё, как обычно. Я стараюсь быть терпеливой, уговариваю светящееся облачко не капризничать, съесть кашу. У Давида это получается лучше.
– Ну-ка, киска, – говорит он, – да ты никак поймала мышку! Покажи, как ты ее слопаешь.
– Ам! – отвечает облачко.
– Умница. А это что такое в ложке? Неужели еще одна мышка? Как удачно ты сегодня поохотилась. Давай ее скорей проглотим, пока не сбежала!
Я вздыхаю.
– Надо тебя как-нибудь с собой взять, чтоб ты так же маму покормил.
Первые признаки распада личности у мамы начались года за полтора до войны. Она сделалась очень мнительной, раздражительной, капризной. Я думала, что она переволновалась из-за моей беременности, но с каждым месяцем круг маминых интересов сжимался всё уже. Она стала забывчива, ей было всё труднее управляться одной, пришлось поселить к ней помощницу по хозяйству, потом другую – долго они не выдерживали. С ужасом узнавала я знакомые симптомы: десять лет назад то же самое происходило с папой, а еще раньше с бабушкой.
В мае сорокового мы не смогли покинуть Париж, потому что уехать с мамой было нельзя, а бросить ее одну невозможно. Повторилась та же ситуация, из-за которой мы не уехали в 1918-ом из гибнущего Петрограда. У меня было ощущение, что это Рок обрек мою семью на раннюю старческую деменцию (ни о наследственности, ни об имитационном синдроме, когда психическое заболевание родственника порождает в человеке сходную патологию, я тогда еще не знала).
Мама словно двигалась в обратном направлении, из взрослого состояния в детское. С каждым годом ее сознание опускалось на одну ступеньку: семь лет, шесть, пять, четыре. Нам жилось бы много легче, поселись мы все вместе, но об этом нечего было и мечтать. Мама не выходила из своей квартиры и горько плакала, если кто-нибудь пытался сдвинуть с привычного места какую-нибудь вещь, а уж от переезда, наверное, просто умерла бы. Про войну и немцев она ничего не знала, про существование внучки забыла, про Давида спрашивала, скоро ли он вернется из Харбина. Маму интересовала только еда. Она требовала пирожков с грибами, или земляничного варенья, или соленых огурцов и безутешно рыдала, когда я не могла ничего этого достать.
Мне было жалко мать, но себя я жалела больше. «Одна с тремя малыми детьми, и никакой ни от кого помощи», часто повторяла я в сердцах.
– Хочешь, ты посиди с ребенком, а я поеду к маме? – с готовностью предлагает Давид.
– Нельзя. Ехать на другой конец города для тебя рискованно.
Давид подмигивает:
– Ты просто боишься, что я завяжу интрижку с Боженой.
Поразительно легкомысленный человек! Всё ему шутки.
Божена – беженка из Польши, добравшаяся до Франции кружным путем, через Скандинавию, только для того, чтобы снова оказаться под немцем. Это была полная, немолодая тетка с расстроенными нервами и склочным характером. Давид никогда ее не видел, но постоянно выслушивал мои жалобы, и для него Божена служила излюбленным предметом для шуток.
Полька работала уборщицей в универсальном магазине. Ей было негде жить, мне – нечем платить ночной сиделке, так что положение дел устраивало обе стороны: когда Божена возвращалась со смены, я могла ехать домой. Девочка к этому времени уже спала. Два часа, которые мы с Давидом проводили наедине, были для меня лучшим временем суток. Мы сидели на кухне, разговаривали шепотом. Правда, часто ссорились – и первой всегда начинала я.
– Ешь яблоко быстрее! Давид, скажи ей! Ты же знаешь, Божена в девять уйдет на работу, маму ни на минуту нельзя оставлять одну!
– Яблоко мы возьмем на прогулку. Да, солнышко?
Я качаю головой. Не хочется затевать вечный спор заново, но все-таки говорю:
– Эти ваши прогулки. Ладно бы еще во дворе, а то опять пойдете шляться по улицам.
– Во дворе помойкой пахнет. Ни кусточка, ни травинки. Ребенку нужен свежий воздух, – скучным голосом говорит Давид. Он уже знает, что я скажу дальше.
– Тогда надень звезду. В трамвае рассказывали, что в гестапо завели какую-то «физиогномическую бригаду». Ходят, смотрят на людей и чуть подозрение – требуют предъявить документы. Если еврей, забирают в Дранси.
– Чушь, бабьи страшилки, – беспечно отвечает Давид. – А то гестапо делать нечего.
Мы говорили на эту тему, наверное, тысячу раз – с тех пор, как на оккупированной территории был введен «Statut des Juds», правила проживания евреев. Ношение шестиконечной звезды объявлялось обязательным, за нарушение – арест и депортация. Давид наотрез отказался подчиняться указу, сказав, что никогда не чувствовал себя евреем и вообще терпеть не может, когда ему что-то навязывают. Сначала я сходила с ума всякий раз, когда он выходил из дома: вдруг патруль? В июле сорок второго по всему Парижу прошли уличные облавы на евреев. Несколько тысяч человек были арестованы и отправлены на стадион в Дранси, откуда, по слухам, людей эшелонами увозили в концентрационные лагеря. Но Давида тогда ни разу даже не остановили. Он говорил, что документы проверяют только у тех, кто затравленно озирается и вжимает голову в плечи, что элегантного господина вроде него никто не тронет, а носатых брюнетов среди французов сколько угодно.
Ознакомительная версия. Доступно 22 страниц из 107