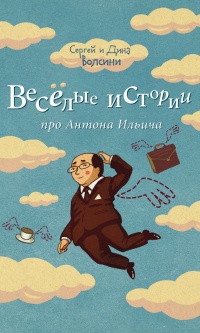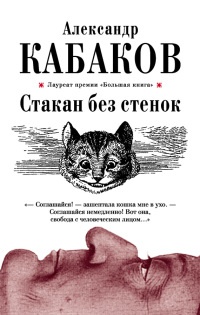Ознакомительная версия. Доступно 25 страниц из 124
Мы с интересом рассматривали банки с незнакомыми этикетками.
После шампанского дядю, как и год назад в «Поплавке», потянуло на стихи.
— «Полночный пир, шальные речи, бокалы вдребезги летят. Покровы прочь! Открыты плечи, язвит и жжёт горячий взгляд». Среди вас есть филологи? Знакомы вам эти стихи?
Дядя прочёл ещё два-три похожих произведения. И филологам, и историкам, равно как и философам, воспитанным на советской поэзии, такие стихи знакомы не были.
Антону, хотя он уже просиживал дни в Ленинской библиотеке за листаньем журналов двадцатых годов, тоже ничто не вспоминалось эдакого, в голове вертелось что-то совсем в другом, неподходящем роде: «Гробы, отяжелевшие от гнили, живым давали страшный адский хлеб, во рту у мёртвых сено находили». Со скрипом он вспомнил четверостишие Виктора Тривуса, которое с натяжкой втискивалось в намеченный поэтический ряд: «Кэт умерла в начале мая, ей было восемнадцать лет. Как жаль! Весёлая такая, беспечная такая Кэт!» Стихи успеха не имели. Саша Сысаев, который сам писал стихи, правда, совсем другого толка, но зато ходил на литобъединение филфака, припомнил строчки кого-то из членов этого объединения: «Не лучше ль в долях секунды муки свои исстрадать» и броситься с моста в воду, «противную, как нарзан», — что было несколько некстати ввиду стоявших на столе многочисленных бутылок этой целебной воды. Но тут пришел Алик Мацкевич, с которым Антон познакомился в общем читальном зале Ленинки, где Алик, хотя был скандинавистом, заполнял уже вторую тетрадь стихами Есенина, не вошедшими в трёхтомник 27-го года. Он спас честь филологов, прочтя два никому не известных стихотворения, примыкающих к циклу «Москва кабацкая», а потом и свои стихи, написанные как раз в нужном ключе: «От трёх лишь вещей прихожу в азарт: женщин, вина и карт». И другие, которые тоже понравились: «Распустив по залу перья длинные, вы летите в танце, как комета, ваши брови, томно-паутинные, чуть дрожат от розового света.
Ты скользишь в такт танго-меланхолии, в твоём платье — аромат о-де-коло-на, вы мне кажетесь цветком магнолии с дальнего, зелёного Цейлона».
Голодные студенты, намешав пива с водкой, вскоре уже все хором пели: «Инженером станешь, с толстым чемоданом ты в Москву приедешь при деньгах. Ты возьмёшь такси до «Метрополя». Будешь пить коньяк и шпроты жрать. А когда к полночи пьяным станешь очень, будешь ты студентов угощать. Станешь плакать пьяными слезами и стихи Есенина читать».
Потом Василий Илларионович пел соло: «Для возлюбленной Алины рвал я струны ман-до-ли-ны, для небесно-нежной Аси я гудел на кон-тра-ба-се, для игриво-нежной Мирры рокотал на струнах ли-ры».
Затем снова вместе пели какие-то получастушки, семантическим центром в которых везде было одно слово: «Продай, мама, лебедей, вышли денег на б…ей»; «Кудри вьются, кудри вьются у б…ей, почему они не вьются у порядочных людей? У порядочных людей денег нет на бигудей, денег нет на бигудей — они сходят на б…ей». Заглянул комендант, но была середина песни, и его никто не приветил, что было неразумно: за эту пьянку Антона чуть не выселили из общежития. Но Василий Илларионович из Москвы ещё не уехал и сходил к коменданту, после чего тот стал при встречах, напротив, глядеть на Антона ласково и даже выделил ихней комнате лишнюю тумбочку и заменил ржавый чайник.
Деньги родители присылали — немного, но регулярно; по расчётам отца, на жизнь должно было хватать. Но львиная доля уходила на консерваторию, театр, книги. Конечно, в отчётах отцу славно было б небрежно отметить: купил рубашку, ботинки, но ложь бы обнаружилась, поэтому приходилось писать про покупку ваксы, мыла, зубной пасты. Как всякое мелкое враньё, это забывалось, и в следующем письме Антон снова писал про гуталин и пасту. «Письмо, где ты упоминаешь, что в третий раз за месяц купил пасту, — отвечал отец, — получили. И сколько же её уходит на зубы твои лошадиные?»
Надо было изыскивать дополнительные источники дохода. Ночная разгрузка вагонов не подошла. После неё бывший морячок Коля Сядристый на лекциях сидел как ни в чём не бывало, Антон же засыпал. Помог Сэмэн Копыто. Не поступив, он родителям
написал, что в МГУ учится, продолжал нелегально жить в общежитии и про приработки знал всё. Сэмэнкопыто устроил Антона в институт психологии в качестве подопытного.
Это была редкая удача: институт находился на задах университета, за час платили десять рублей (стипендия составляла двести девяносто), вместо лекции по истории КПСС можно было получить двадцать рублей.
Интересны были и сами опыты: запомнить, что сможешь, из комбинации зажжённых лампочек, а потом воспроизводить это через день, через три, через две недели, через месяц, заодно узнав свойства своей памяти. У Антона выше нормы оказалась краткосрочная память. Это ему сильно помогало, когда он по вечерам стал записывать свои случайные или постоянные разговоры с Тарле, Лосевым, Арсением Тарковским, Кручёныхом, Зайончковским.
Проводились и другие опыты — сенсорные. В тёмной комнате надо было полчаса адаптироваться, а потом реагировать на появляющуюся на экране светящуюся точку.
Васька Весовщиков, которого Антон тоже привлёк к опытам, рассказывал в общежитии:
— Ждём в коридоре. Подходит красивая аспирантка, радостно улыбается, берет Антона за ручку и уводит в комнату. Закрывается железная дверь, лязгают засовы.
Слышно, как запирают и вторую дверь. Зажигается красное табло: не входить! 70 %, 80 %, 100 % — абсолютная темнота, значит. Проходит час. Табло гаснет. Лязгают засовы, обе двери отворяются. Антон и аспирантка выходят — очень довольные.
Васька делал многозначительную паузу: — А диван, на котором вы… адаптируетесь, чёрный? Для лучшего светопоглощения?
Аспирантку звали Виктория, было ей под тридцать, и она, как Антонова учительница биологии Дулько, писала уже вторую диссертацию — первую, почти законченную, пришлось бросить: при обсуждении представленного на кафедру варианта там нашли влияние бихевиоризма, фрейдизма и элементы мистицизма. Антон не знал, избавилась ли она от этих элементов в новой диссертации, экспериментируя на нём, но всем тем, что вскоре стали именовать парапсихологией, Виктория интересовалась пристально — это Антон установил во время первой же, ещё тонной, адаптации на чёрном диване (он действительно был как антрацит), когда она обмолвилась о Вольфе Мессинге.
Об этом гипнотизёре, без труда читающем мысли, Антон всё детство слышал от отца, который бывал на его сеансах в Москве, и от Василия Илларионовича, видевшего его психологические опыты в Кисловодске. Рассказы были фантастичны. Поэтому, когда появилась афиша, что Вольф Мессинг будет выступать в клубе МГУ, Антон с утра стоял у кассы.
На сеансе всё было так, как рассказывали, ещё и похлеще. Мессинг вынул из внутреннего кармана добровольца колоду карт, которую по мысленному желанию того разложил на столе в сложном порядке: верхний ряд — все валеты, второй и третий ряды — карты с шестёрки по десятку треф и пик, четвёртый ряд — дама, король, туз бубен; продиктовал расположение фигур на каждой из половинок картонной шахматной доски, спрятанной студентами под креслами в разных концах зрительного зала, и сделал несколько ходов староиндийской защиты (ассистентка сказала, что в шахматы играть он не умеет). Когда не мог с ходу угадать мысль, сердито покрикивал на испытуемого: «Думайте о вашем предмете! А я вам говорю — вы не думаете! Думайте!» Глаза артиста лихорадочно блестели, пот крупными градинами катился со лба, воротничок сорочки намок.
Ознакомительная версия. Доступно 25 страниц из 124