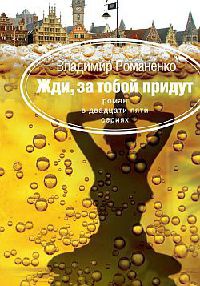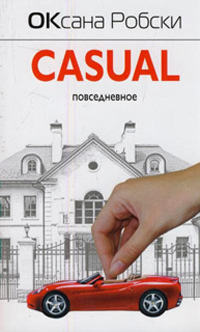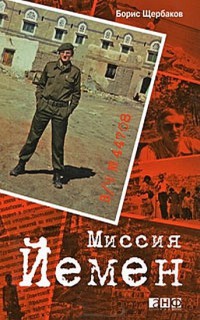Я попытался вспомнить что-то из своего итальянского лексикона, полученного во время пребывания на Апеннинах. К сожалению, кроме «кванта коста»[278] и «манджаре» [279]на ум ничего не приходило.
Итальянец меня опередил.
– Левка, привет! What’s up! Как дела? – весело сказал он по-русски. Иностранцы так не разговаривали – у новичка чувствовалось особое знание предмета.
Его произношение отдавало южно-русским говором в аранжировке русско-американских интонаций.
– Привет, привет, – ошалело ответил я, удивляясь попаданию двух русских в одну камеру.
Один шанс из тысячи.
– Я Алик Робингудский. А ты Лева Трахтенберг, ведь верно? Слушай, так вот ты какой вживую… Я про тебя столько читал и такого наслушался…
– Плохого или хорошего? – автоматически ответил я, привыкнув за много лет к подобным заявлениям.
– Разного, мэн, разного. И на улице, и в бруклинской тюрьме MDC[280], и на той стороне зоны. Кстати, могу по-дружески предупредить – кое-кто из пацанов с «Севера» недоволен твоими тюремными рассказами в журнале «Метро». А кому-то из дома прислали твои распечатки с Интернета…
– А в чем проблема? – не удивился я вопросу.
– Говорят, что ты слишком плохо о них отзываешься… Вместо того чтобы «приподнимать» русских, ты их «опускаешь». Мол, тон твоих репортажей – очень «саркастик»[281] энд «айроник»[282]. Уважения не хватает. И вообще – серьезнее надо… Понимаешь, мэн? – ответил Алик.
Поначалу я пытался оправдываться перед русскими Форта-Фикс, но скоро оставил это неблагодарное занятие. Объяснять авторскую задачу, нехитрые стилистические приемы, подбор слов и мои шутки было совершенно бесполезным делом.
Половина русскоязычных зэков были не в восторге от моего «Тюремного романа».
Получалась парадоксальная ситуация.
С одной стороны, журналисты на воле писали, что я «приукрашиваю своих соседей по бараку». Им не нравились мои нападки на Америку, а также посылы, что все мои товарищи по зоне «осуждены безвинно».
Неправда – мы все, так или иначе, преступили американский закон. Я возмущался другим: драконовскими сроками, стукачеством и беспрецедентной практикой наказания за часто недоказанный «преступный сговор».
С другой стороны, мои «Тюремные хроники» задевали самолюбие некоторых русских фортфиксовцев. Они с радостью читали о сидящих с ними зэках или зольдатен, находя мои описания точными и даже в чем-то смешными. Когда же дело доходило до них самих, ситуация менялась на противоположную. Классическая реакция на живое слово напоминало только одно – последнюю сцену из «Ревизора», когда чиновники читали вслух письмо Хлестакова Тряпичкину.
Недаром Николай Васильевич в эпиграф пьесы вынес поговорку: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива».
С третьей стороны, я лично не мог перечитывать свою эпопею без дрожи. Почти в каждом абзаце чувствовались ненужная бравада и какая-то корявость – большее время я говорил все-таки по-английски. Из-за этого мне часто хотелось все бросить к чертям собачьим и вместо тюремных дневников заняться чтением и расслабухой.
И наконец, с четвертой стороны, мои заметки раздражали тюремные власти.
Проблемы начались через несколько месяцев после первой публикации. Бюро по тюрьмам потребовалось какое-то время на перевод «русских опусов». Меня несколько раз вызывали в спецчасть – «Special Investigation Service»[283] и требовали прекратить «безобразие».
Апофеозом антиконституционных гонений стало заключение «писателя» Трахтенберга в карцер.
Я на собственной шкуре и несколько раз проверил действие любимой американским народом Первой Поправки о свободе слова.
Назад в камеру я попадал после очередного вмешательства правозащитных организаций и прессы из-за «забора».
Безоговорочно «На нарах с дядей Сэмом» нравилось только моим родителям, сестре с дочкой и поддерживающей меня из Чехии доброй университетской подруженции и «няне-по-переписке» Наташе Шубной.
Ну и еще паре десятков читателей «Метро», «Вечернего Нью-Йорка» и «Нового русского слова», которые периодически присылали мне в Форт-Фикс письма поддержки и «восхищения».
Собственно, для них я и старался.
…Поэтому я широко улыбнулся, слушая донесения Алика Робингудского о недовольных моих писаниной русских зэках.
К сожалению, ничего нового он мне не сказал, о чем и был моментально проинформирован.
Поэтому во избежание ненужных пауз мы с радостью переключились на другое – решение хозяйственно-бытовых вопросов моего нового соседа, сопровождаемое краткой историей очередного «преступления и наказания».
Алик слегка суетился и распространял вокруг себя высокочастотную энергию, как турбинный зал Днепрогэса.
…Тридцать лет назад упитанный карапуз Алик вместе с обожающими его родителями покинул столицу Украинской ССР. Как и многие другие, семья новых иммигрантов поселилась в славном русском гетто Нью-Йорка – на знаменитом Брайтон-Бич. По окончании «кузницы русских американцев» – школы имени Абрахама Линкольна на Оушен Парквей – продолжать какую-либо учебу юноша отказался.
Как Максим Горький и другие представители критического и социалистического реализма, Алик Робингудский предпочел «хождение в народ» и свои собственные «университеты».
В конце восьмидесятых в Нью-Йорке, как после дождя, начали возникать брокерские конторы, торгующие акциями на бирже NY Stock Exchange[284]. Некоторые из них специализировались на торговле валютой разных стран на виртуальной бирже FOREX[285].
Оба вида контор в народе назывались «бойлерными», поскольку и там, и там страсти накалялись до предела. В одночасье делались состояния или спускались сбережения всей жизни. Азартные брокеры, проводящие перед компьютерами своих контор сутки напролет, играли деньгами своих клиентов из одноэтажной Америки.
Алик Робингудский был суперброкером и Продавцом с большой буквы. Настоящим, классическим «сейлзмэном». Он мог продавать все: никому не нужные пылесосы «Рейнбоу», гербалайф или страховки. Ему легко удавалось уболтать и живого, и мертвого, причем делал он это мастерски.