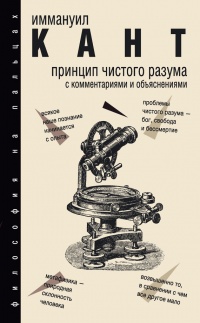Ознакомительная версия. Доступно 19 страниц из 93
– Каких?
– Что нет ничего приятнее, как быть здоровым, хотя до болезни сами не замечали, что это очень приятно.
– Помню, – сказал он.
– Не слышишь ли, что и мучимые какою-нибудь болью говорят: не было бы ничего приятнее прекращения этой боли?
– Слышу.
– Да и в других многих подобных случаях замечаешь, думаю, что люди, когда страдают, превозносят, как величайшее удовольствие, не радость, а не страдание, то есть затишье страдания.
– Ведь это, – сказал он, – затишье тогда бывает, может быть, приятно и вожделенно.
– А когда кто перестанет радоваться, то же самое затишье удовольствия будет неприятно.
– Может быть, – сказал он.
– Следовательно, находясь, как мы сейчас сказали, между обеими крайностями, это затишье будет тем и другим – и страданием, и удовольствием.
– Выходит.
– Но возможно ли, чтобы ни то ни другое было тем и другим?
– Кажется, нет.
– Однако же, пробуждающееся в душе приятное и неприятное есть некоторое движение обеих крайностей. Разве нет?
– Да.
– А ни неприятное ни приятное не есть ли именно затишье, и не явилось ли оно сейчас в средине их?
– Явилось.
– Каким же образом можно правильно не-болезненность почитать приятной, или не-радость – прискорбной?
– Никак нельзя.
– Следовательно, этого на самом деле не бывает, оно лишь таким представляется: покой только тогда и будет удовольствием, если его сопоставить со страданием, и, наоборот, он будет страданием в сравнении с удовольствием. Но с подлинным удовольствием эта игра воображения не имеет ничего общего: в ней нет ровно ничего здравого, это одно наваждение.
– По крайней мере, на это указывает наше рассуждение.
– Итак, что бы тебе иногда не подумать, будто удовольствия в настоящей жизни бывают по природе таковы, что удовольствие есть прекращение страдания, а страдание – прекращение удовольствия, – смотри на удовольствия, происходящие не от страданий.
– Где же и какие разумеешь ты? – спросил он.
– Их много и других, – отвечал я, – но особенно, если хочешь понять, это – удовольствия обоняния, ибо они, и не предваряемые страданием, бывают вдруг чрезвычайно сильны, и по прекращении, не оставляют никакого страдания.
– Весьма справедливо, – сказал он.
– Следовательно, мы не должны верить, что прекращение страдания есть чистое удовольствие, или прекращение удовольствия есть чистое страдание.
– Конечно, нет.
– Впрочем, так называемые удовольствия, переходящие в душу через тело, при своей многочисленности и силе, бывают такого рода, что должны быть почитаемы прекращением страданий.
– Действительно.
– Не таковы же ли и предчувствия будущих благ и страданий, происходящие от ожидания?
– Таковы.
– Знаешь ли, – спросил я, – что такое они, и чему подобны?
– Чему?
– Признаешь ли ты в природе что-нибудь – одно высоким, другое низким, третье средним?
– Признаю.
– Думаешь ли, что кто-нибудь, стремясь к середине, иначе представляет себе это, чем стремлением кверху? И что став в середине и видя, откуда начал он двигаться, но не созерцавши подлинной высоты, почитает себя стоящим не в ином месте, как наверху?
– Клянусь Зевсом, – сказал он, – я никак не думаю, чтобы такой человек представлял себе это иначе.
– А если бы опять стремился он вниз, – продолжал я, – то, думая, что стремится вниз, не справедливо ли бы он думал?
– Как не справедливо?
– И не потому ли он представлял бы себе все это, что не имеет опытного познания об истинно высоком, среднем и низком?
– Очевидно уже.
– Так удивился ли бы ты, если бы неопытные в истине, имея не здравые мнения о многих других вещах, оказались таковыми относительно удовольствия, страдания и средины между ними, – если бы, то есть, стремясь к страданию, находили его поистине таким и действительно страдали, а переходя от страдания к середине, упорно полагали бы, что переходят к полному удовольствию, и, подобно тому, как незнающие белого цвета белым, черным цветом почитают серый, по незнанию удовольствия, обманчиво судили бы о страдании.
– Клянусь Зевсом, не удивился бы, – сказал он. – Гораздо удивительнее было бы, если бы оказалось иначе.
– Вдумайся же в следующее, – продолжил я, – голод, жажда и тому подобное не суть ли какие-то лишения, в состоянии тела?
– Как же.
– А невежество и непонимание не есть ли также лишение в состоянии души?
– И очень-таки.
– Но это лишение не тот ли вознаграждает, кто принимает пищу и имеет ум?
– Кто же иначе?
– А вознаграждение бывает истиннее от того ли, что меньше, или от того, что больше сущно?
– Очевидно, от того что больше сущно.
– Которым родам приписываешь ты сущность более чистую? Например, хлебу ли, питью, мясу и всякой вообще пище, или роду истинного мнения, познания, ума и всякой вообще добродетели? Суди следующим образом: держащееся всегда того, что себе подобно, бессмертно и истинно, что и само так существует, и в том бывает, – держащееся этого не больше ли, по твоему мнению, существует, чем то, что никогда не держится себе подобного, но держится смертного, и само бывает в том и таково?
– Что держится всегда себе подобного, – сказал он, – то гораздо превосходнее.
– А сущность всегда себе подобного причастна сущности больше ли, чем знания?
– Никак.
– Что же? Больше, чем истины?
– И не это.
– Если же оно меньше причастно истины, то меньше и сущности?
Этими вопросами Сократ наводит собеседника на мысль, что сущность вещи (вещь сама в себе) – это то же самое, что знание и истина в смысле объективном. Знать вещь действительно – значит знать ее в сущности, а знать вещь в сущности – то же, что получить знание действительное или истинное.
– Необходимо.
– И вообще – всякого рода попечения, относящиеся к служению телу, не меньше ли причастны истины и сущности, чем попечения, относящиеся к служению душе?
– Да, и гораздо меньше,
Ознакомительная версия. Доступно 19 страниц из 93