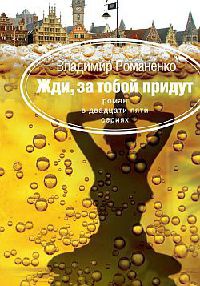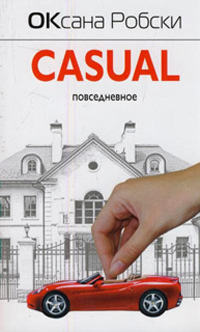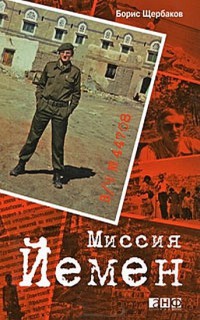Ничего примитивнее, чем инициалы в качестве имен, я не встречал.
Русские кликухи и погонялы, как мне казалось, отличались большим разнообразием.
«Варвары, господа, варвары», – приговаривал в таких случаях поручик Ржевский.
Cреди афроамериканцев в качестве тюремных обращений особой популярностью пользовались слова «gangsta»[263] или «nigga»[264]. Они заменяли русское «мужик» или «парень».
Иногда так называли даже меня: «What’s up, Russian nigga»[265] или «What’s popping, gangsta L»[266].
Однако частотным лидером и тюремным чемпионом выступала всеобъемлющая фраза «This shit is crazy!»[267] В зависимости от ситуации и совсем как в случае с Эллочкой Людоедкой она означала совершенно противоположное: от вселенской радости до мировой скорби.
Мне лично больше всего нравился ее прямой перевод на русский: «Это говно – сумасшедшее!»
Простенько и со вкусом!
…Костя Дубровский продолжал:
– Помнишь, Лева, на днях показывали новый «Кинг Конг». Бля, я посмотрел эту хренотень минут пятнадцать. Не выдержал, ушел… Зато моим соседям-идиотам – зашло офигительно! Понравилось так, что два часа не могли успокоиться. Короче, эти козлы уже несколько дней спорят до хрипоты. Как будто корову последнюю проигрывают. Никак не могут решить – кто сильнее и кто кого победит: Кинг Конг из этого фильма или Годзилла из другого. Сравнивают их размеры и силу! Я вначале не поверил, когда услышал, о чем спор. Ну было известно, что баклажаны трахнутые, но не настолько! Здоровые лбы, тридцати-сорокалетние придурки. Анбеливбл,[268] Лева…
Я понимал, что творилось на душе у Кости, поскольку на днях мне пришлось выяснять отношения со своими соседями по камере.
«Шварцы»[269] (как называли чернокожих американские евреи), все как один, оставляли на ночь на нашем единственном столе грязную и вонючую пластмассовую посуду.
После очередного вечернего супа из «пачки» и канцерогенной колбасы Summer Sausage амбре не выветривалось несколько часов. Засыпать в таких условиях было достаточно противно. Несколько раз я пытался донести до неомойдодыренных соседей свою позицию по данному санитарно-гигиеническому вопросу. Несколько раз во время разговора мне хотелось назвать их свиньями. Несколько раз я был на грани жизни и смерти – назвать чернокожего негром или свиньей для меня являлось абсолютным табу.
В ответ на мои упреки афроамериканский звеньевой с раздражением заметил:
– Лио, оставь нас и посуду в покое! Пойми, мы привыкли так делать у себя дома, в «худах»[270]… Мы легко можем выбросить остатки еды из окна… И вообще это тюрьма, не мешай нам «делать срок», как мы привыкли и умеем. Понял, Раша?
Я понял одно – переучить их мне вряд ли удастся. Поэтому я не отказывал себе в малой радости: отважный дрессировщик Лев Трахтенберг не одалживал черным однокамерникам кофе, сахар или кример, если те не произносили заветное слово «please».
Хамство просящих меня возмущало.
В результате опытов черные выработали условный рефлекс быстрее, чем собаки Павлова.
«Спасибо» и «пожалуйста» вошли в их небогатый лексикон, и я этим по праву гордился.
Два негра меня так и называли: «Say please» – «Скажи, пожалуйста».
Почти у каждого из нас была своя ежедневная «черная» история, быль или байка.
Однажды, во время утреннего моциона вдоль тюремного забора и спортплощадки, своей болью поделились эстонский рабовладелец и мой коллега Рома Занавески. Ко всем русским особям мужского пола независимо от возраста он обращался только «мааааалчики». Слово «сапоги», обозначающее любую обувь и вынесенное со службы в советской армии, стояло у него по популярности на втором месте. Третьим выступал глагол «приходить», причем он всегда употреблялся в прошедшем времени, совершенном виде, мужском роде и единственном числе: «Когда она пришел в Америку на следующий год…»
С голубоглазой бестией – бостонцем Ромой – соскучиться было невозможно: «Маааааааалчики, мне пиздец как неприятно смотреть густые кучерявые кусты у ниггеров под мышками! Они не следят за собой в тюрьма, ни хрена не бреют! Пришел из гетто и живут как в пещере! Весь раковины в их волосах – я рвать хотел даже! У них на голове волосы, как у нас в трусах!»
И с этим тоже нельзя было поспорить.
Бытовой расизм у русских зэков расцветал пышным цветом.
Тема «черные – белые» не оставила в стороне и Максимку Шлепентоха.
…В тот субботний день он совершил насилие над собственной личностью и встал на завтрак. Обычно Макс просыпался значительно позже, так как допоздна я пребывал в «ночном» – в ТВ-комнате своего отряда.
Днем он как бы самообразовывался, работал и ходил в спортзал, ночью – заслуженно расслаблялся, посещая у себя под боком филиал казино Атлантик-Сити. Игрища в тюремном катране затягивались до двух-трех утра, но Максимка время не замечал.
Поскольку по субботам на завтрак подавали лакомый зэковский деликатес – запаянный в целлофан кексик «мафин», то к нашей обычной тройке присоединялся мой верный друг Максим:
– Пацаны, вы лучше послушайте меня. Помните, у меня сосед есть из Филадельфии, черный. Его зовут Red[271], лысый такой, весь в прыщах.
Мы закивали, как благодарные лошади после ведра овса.
– Так вот, вчера он принес свои «пикчерс»[272] – он и его друзья-гангстеры из нашего юнита… Стоят на лужайке у качалки, яркий солнечный день, зеленая трава, сзади, как всегда, кирпичная стена… Ничего нового: изображают из себя крутых парней, руки на яйцах… Ну я тоже решил взглянуть внимательнее на фотку. Представляете, пацаны, поскольку все лица темно-коричневые, почти черные, ни у кого не видно ни черта. Голяк! Шесть гребаных черных пятен с белыми точками вместо глаз… Так вот, этот Рэд вышел немножечко посветлее остальных. Он это заметил, тычет в фотку пальцем и говорит: «Смотри, а ведь я светлокожий!» Представляете, как им живется и что у них внутри? Пи…ц полный!
Мы разулыбались и опять по-лошадиному закивали.